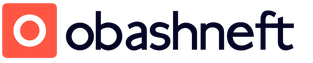Тернии судьбы Виталия Сёмина. Виталий Сёмин в библиотеке А.Белоусенко Писатель семин виталий
Было восемьдесят лет со дня его рождения и без малого тридцать со дня смерти. В зале Областной библиотеки выходили к микрофону люди, говорили о нём, много цитировали. Цитаты были почти все из романа «НАГРУДНЫЙ ЗНАК ОСТ», убийственные. Гениально, никто так не писал о фашизме – это было не просто мнение, но глубокое удивление и признательность. Я слушал, и ни одно из выступлений меня не устраивало. О его жизни говорили, как о героической. Я знал его как жертву. Может быть, героическую жертву, но всё-таки жертву. Если б не обстоятельства, то большая часть из написанного им было другим.
Виталий Сёмин… Долгое время я казался себе чистым самоучкой, за любое из своих умений обязанным только самому себе. Ну, ещё книги, конечно. А живые люди… В моей башке сидело вбитое советской пропагандой представление об учителях, как о людях одновременно и всезнающих и в то же время безгрешных. Таких вокруг не существовало. И лишь годам к сорока я понял, что учителей у меня было просто тьма. Рубил топором сучья спиленного дерева. Не тот, что в руке, а свободный конец разрубленной пополам ветки иногда взвивался вверх и опускался мне на голову или плечи. Это, конечно, раздражало, я потихоньку ругался нехорошими словами. Мимо шёл человек, вдруг остановился и сказал: кто ж так работает, надо не поперёк, а наискось. Я слегка обиделся, ещё некоторое время рубил по неверному методу, но когда на мою голову упала очередная палка, попробовал наискось, и оказалось лучше. И вдруг прозрел. Мама родная! Да ведь только что меня научили! Уже скрывшийся с моих глаз человек научил, следовательно, это был учитель. О, сколько же на самом деле было у меня учителей. И плохие, делавшие мне нехорошо, тоже были учителями. А книги… Конечно, и книги. Но чего б стоили книги, если б не было действительности. Да и откуда бы они сами взялись? И самым большим моим учителем был Виталий Сёмин, к которому я когда-то бегал показывать свои новые листы.
Привела его в наш Красный город Сад Вика Кононыхина, старшая сестра моего школьного и уличного товарища Женьки по кличке Мышка.
После танцев в горсаду мы ехали последним рейсом в битком набитом автобусе. Когда стоячий народ, и мы среди них, как сельди в бочке, притерся друг к другу и успокоился, увидели впереди на сиденьях парочку. Здоровенный кудрявый лоб обнимал Вику, положив мощную руку на её плечи. Это было настолько необычно, что мы заговорили чуть ли не шепотом.
- Гля, чего Витька нашла! – сказал один. – Ничего себе ребёнок.
- В два раза больше, - определил второй.
- Тридцать лет гуляла девушкой, а теперь война пришла, - пропел третий.
- Не тридцать, а двадцать семь, - поправил Женька Мышка.
- Алилуйя, алилуйя! Господи, благослови.
Потом, когда они в самом деле поженились, я увидел его, мчащегося к остановке "семёрки". Он набрал такую скорость, что буквально уж летел, ног под собой не чуя. Мне это было хорошо знакомо, точно так и к трамваю "семерке", и к "третьему" автобусу приходилось мчаться не раз. Но мне было неполных девятнадцать и при росте метр восемьдесят четыре всего шестьдесят девять килограммов, а он "старый", и при том же росте, объёмом, может быть, в два раза больше. От очкарика интеллигентного вида я такой резвости не ожидал. Но факт был налицо, толстяк и очкарик бегал лучше очень многих пацанов Красного города. Молодец, однако! - навсегда отпечаталось где-то там у меня в голове.
Потом Женька дал мне почитать два его первых, очень слабых рассказика, про которые я сказал: "Фи, я так тоже могу".
Потом я встретил его на перекрестке улиц Шмидта и Красной. Он шел из поликлиники, где ему только что вырвали зуб, выглядел довольно жалко – одна щека была вспухшей, изо рта торчал кусочек ваты. Но мы вдруг разговорились.
Заочно знакомый, в первый же раз я обрушил на него своё чисто люмпенское неприятие мира сего. То, что пишется о нашей жизни в газетах, журналах, книгах, – позорная ложь. Советских писателей во главе с Фадеевым с четырнадцати лет не переношу. "Молодая гвардия" – брехня. Ничего подобного никогда не было! Когда мне было десять, двенадцать… как я мучился! В войну всем было жутко. Кроме холода, голода и страха ничего ведь и не было. Ужасно не хотелось умирать. А у всяких там Семёнов Бабаевских, Анн Караваевых и прочих солдаты рвутся в бой, чтобы умереть за родину, за Сталина. Из книги в книгу переходит герой, главное достоинство которого широкие плечи, походка вразвалку и умение не опускать глаза перед самыми нехорошими людьми. Я пробовал двигать себя будто танк, никому не уступая дороги, но в последний момент обязательно сделаю шаг в сторону. То же самое когда мне врут, не могу таращиться и уличать во лжи. Не могу и всё! Мне стыдно. Пасую, опускаю глаза…
От этих моих признаний Виталий расхохотался и сделался добрым. "Ты прав, старина! Хамство не уступать дорогу встречному. И смотреть в глаза наглецу стыдно. Вспоминаю… вспоминаю… Когда-то и меня это мучило. И герой с широкими плечами был у пролеткультовских писателей. Походка в развалку… Плевки через плечо… ".
- Настоящая правда у нас то, что пройди сейчас во все стороны с этого перекрестка, и в каждом доме узнаешь про убитых и замученных в лагерях немецких и советских, на фронтах войны, а есть из этих домов и то, которые до сих пор сидят.
- Я три года умирал в Германии, мне всё это очень знакомо. Пройдут годы, и правда без сомнения обнародуется. А сейчас нет, начальство не пропускает. Я пробовал. Похвалили. Только это, говорят, нашим людям не надо, - примерно так сказал он.
- Ясное дело, правда им не нужна. Потому что все, кто был в Германии, прямым ходом попали как предатели родины из лагерей немецких в советские. За то, что были в оккупации, мою мать заслали на Урал. Ты (в те времена я всем без разбора говорил "ты") ведь побывал на Урале или в Казахстане?
- Нет. Меня после освобождения отыскал в американском секторе отец и при всеобщей неразберихе сумел отправить домой. Повезло. А ребята, которые со мной были, попали кто в лагеря, кто в солдаты, самые умные в СССР не вернулись. Но я бы вернулся на любых условиях.
Потом он сказал:
- Но знаешь, всё меняется. Сейчас, если умеешь читать между строк, много разного полезного можно узнать. Так что ты в своём неприятии мира сего не совсем прав. Работа в головах идёт, перемены будут, они неизбежны.
- Это понятно, - уныло согласился я. – Только когда они будут… Столько дури вокруг. Взять хотя бы социалистическое соревнование. Нет никакого соревнования! Просто режут нормы и за те же деньги работяга вынужден работать быстрее и быстрее. И сам наш главный нынешний вождь - дурак. Ничего кроме анекдотов о нём в народе не говорят.
- Знаю. Но руки опускать нельзя. Кое-какие возможности появились. Я решил любыми путями добиться членства в Союзе писателей. Это даст пропитание и, самое главное, время. А будет время – я его даром не потрачу.
Вот в этом месте он мне не понравился. Сын своего отца, здесь я, кажется, имел побольше опыта.
- Но это может увести знаешь куда?..
- Конечно, знаю. Будем бороться. Есть, например, "Новый мир". Время от времени им удаётся печатать стоящее. Хотя бы маленькими шажками надо двигаться к лучшему...
Вот такой примерно разговор состоялся осенью 56-го.
Потом меня постригли наголо и в телятнике повезли на Крайний Север, к берегу окруженного сопками красивейшего фьорда строить базу подводных лодок. (Когда затонула подлодка «Курск» и телевидение показало место её обитания, я узнал и тот фьорд, и сопки вокруг него)
Потом я вернулся, у меня появились три свободных месяца, которые я провел так, как хотел бы провести всю жизнь. За письменным столом. Писательство оказалось делом невероятно трудным. Жизнь вдруг обернулась всего лишь материалом, подобно обыкновенному бревну, из которого один мастер может сделать доску; другой стол; третий, искусник, красивый комод. Обычно мы живем настоящим, а если оно плохое, будущим. Для пишущего важнее всего прошлое.
Без критики писателю, да и вообще человеку искусства, нельзя. Особенно начинающему. А помочь мне мог только Виталий, к нему я и бегал через день да каждый день.
- Писательство - крест тяжкий. Писатель должен быть человеком мужественным. Литература - это только то, что на "отлично", остальное не литература - макулатура. Это как жизнь и смерть: или ты живой, или мертвый. Среднего нет.
Первые два рассказа получились у меня втемную. Я понятия не имел, чего хочу, с чего начать и чем кончить. Исписав несколько страниц, шел к учителю, он смотрел и говорил, что вот это и это - здесь ты вышел в люди, здесь похоже на прозу, остальное не годится. Я мгновенно обижался, однако начинал размышлять и скоро видел, что так оно и есть, мучился собственной бездарностью, но обычно на следующее утро что-то новое приходило в голову и рождалось продолжение. И однажды я понял, что все-таки написал самый настоящий, во всех отношениях художественно законченный рассказ.
Силёнок моих и опыта жизни хватило тогда на пять рассказов, три из которых пропали, а два были напечатаны аж через двадцать три года. А тогда был ужасный мрак. Виталий, в то время практически сам начинающий, два моих рассказа, честных и в то же время производственных, то есть проходимых, отнёс в редакцию областной газеты "Комсомолец", и они были вроде приняты. Но года два мне там морочили голову и так и не напечатали под тем предлогом, что портфель редакции полон, вот если б я сначала написал пару очерков на производственно-патриотическую тему... Однако от очерков каких бы то ни было, даже написанных великим пролетарским писателем Горьким, меня тошнило. В то время критики безмерно хвалили очерки Овечкина. Мне они не понравились, едва начав читать, бросил.
А доконала меня первая, совсем не способная удовлетворить настоящего читателя книжечка Виталия. Автор был явно талантлив. Но только когда речь шла о природе, труде, разных второстепенных трогательных, или смешных, или подлых лицах. Здесь он подмечал всё. Но молодой главный герой был не пуганный светлый дурачок, белая страница, с намёком на то, что перед нами будущий продолжатель строительства коммунизма.
- После подневольного труда в лагерях твои главные герои должны быть другими, - сказал я ему.
- Только так, как я написал, у нас можно напечататься! – Он был страшно рад этой своей маленькой первой книжечке, гонорару, новой работе. Да-да, ему дали место литработника в только что открывшейся газете "Вечерний Ростов". Чего ж ещё? Для начала совсем неплохо
Словом, мы разошлись. Что общего могло быть между победным молодым писателем и работягой, не желающим, да и не знающим как выворачиваются наизнанку. "Вышли мы все из народа". Виталий, например. А я, между прочим, не вышел. Я остался. Я был светлый дурачок со знаком минус. Таких в нашей державе пруд пруди.
Отчаявшийся, лет на семь я впал в беспутство.
И вдруг грянуло.
"Они пили водку, спорили о том, что быстрее пьянит – разбавленный спирт или водка"… Это было.
"Говорили, что папироса после водки пьянит сильнее, чем две кружки пива…" Здесь сомневаюсь. Уже в двенадцать лет мы знали, что сто пятьдесят водки и хотя бы кружка пива с обязательной в любом случае папиросой - и ты будешь дурак дураком (что нам и требовалось), а сто пятьдесят с папиросой – это не туда и не сюда, надо ещё достать денег, чтобы преодолеть недобор.
"Я хотел совсем отказаться от выпивки, но устыдился… выпил два стакана пива и вдруг от усталости осоловел, потянулся к водке… Потом я рассказывал об Эстонии, о Таллине, как строили эстонские мастера каменщики… В это время меня из-за стола вызвала Муля: "Витя, они тебе в рот смотрят, а нам завтра на работу к шести утра. Накурили, глаза залили…" Накурили – иначе и быть не могло. Глаза залили не до конца. В рот Вите смотреть и не думали, сознавая своё превосходство: интеллигент, с двух рюмок развезло, разболтался…
"А до этого клали из саманов стены будущего Женькиного дома. Длинный позвал меня делать замес. Мы принесли воды, насыпали прямо на асфальтовую дорожку глины, песку, сделали воронку и стали лить воду, перемешивая глину и песок лопатами. Раствор постепенно становился тяжелым, вязко хлюпая, налипая на лопату. Мы оба вспотели, тяжело задышали. Длинный что-то прикинул, сказал: "Знаешь, сколько по госрасценкам это стоит? Тридцать копеек". - "Даром деньги не платят?" – "Трудно свой хлеб добывал человек". Он любил цитаты. Они все – и Длинный, и Женька, и Толька Гудков, и Валерка охотно острили цитатами". Это точно.
"Женька отлучается всё чаще и чаще – он первый сдается. Потом сдаётся Длинный…" Про Женьку правда, про меня нет. Просто я был самый быстрый в нашей компании и поднял свою часть стены до критической высоты раньше других, и если б положил ещё хоть один ряд, не успевшие схватиться на глиняном растворе саманы попросту поплыли бы под собственной тяжестью и стена рухнула…
Ну а дальше мы мылись под летним душем, потом последовало угощение, потом Женькина жена Дуська нас попросту выгнала на улицу. Потом был расход: "Валька Длинный перешагнул через свой мотоцикл и, как на детский стульчик, уселся на сиденье, усмехнулся. Он не считал, что произошло что-то такое, из-за чего стоило расстраиваться… Отталкиваясь длинными ногами, он двинулся мимо акации, обогнул кучу глины и выехал на дорогу. Дорога была немощёной, разбитой грузовиками, мотоцикл вилял, луч фары высвечивал проезжую часть от одного тёмного ряда акаций до другого, но нигде не видно было гладкого места. Длинный свернул с дороги на узкий асфальтовый тротуар, газанул, задний фонарик, наливаясь ярким светом, помчался мимо одноэтажных домов. "Собьёт кого-нибудь", - сказал я. "Пусть не ходят", - сказал Женька…"
Я читал это, стоя у газетного киоска. Особенно мне не понравилось про сыростно белые руки. "Такими они бывают, если смыть с них глину, налипшую за целый день. Такую глину смываешь, будто отдираешь кожу, обожженную солнцем, и остаётся новая кожа, ещё не тронутая солнцем". Это ж надо так нервно чувствовать! На самом деле сыростно-белыми руки были у прачек пятидесятых годов после стирки хозяйственным мылом и каустической содой. А после глины с песком, которые очень легко смываются, руки делаются чистыми и необыкновенно лёгкими. Полистал в поисках новых страниц про меня и моих друзей, ничего больше не нашел, решил, что дальше читать не буду и покупать журнал не буду. Мне стало очень плохо. Разве так надо писать про нас? Ничего по-настоящему он не знает. Кто только нас, уличных, не оговаривал. По радио, в газетах, в кино, на всевозможных собраниях. Вонючки советские продажные! В основном дрянь гораздо большая, чем мы. А вот теперь ещё и умник писатель Виталий Сёмин – толстяк в очках, вылитый Пьер Безухов (никто никогда не мог видеть Пьера Безухова, но Виталий в точности соответствовал толстовскому описанию).
Почти все мои дорожки были кривыми, а отношения с людьми, попадавшимися на этих дорожках, вряд ли нормальными. Не знаю, каким бы был я, не будь его. Я всё время как бы отталкивался от него, Виталия Сёмина. Впрочем, не будь Сократа, Платон всё равно был бы, но другим; не будь эпикурейцев, стоики стояли на своём как-нибудь иначе. И так далее. Разошлись – неверно про мои отношения с Виталием сказано. Все эти пустые лет семь моей жизни я часто видел его, так как ему пришлось жить на Красной 8 с 57-го и, примерно, до 65-го. Я брал у него книги, мы их иногда обсуждали, я знал о нём даже больше чем положено. Объяснялось это тем, что мой товарищ Женька очень не любил свояка, а нелюбовь делает, как известно, людей проницательными и склонными заражать ею всех окружающих вплоть до посторонних. "Гавкает, а укусить боится", говорил мой товарищ о появляющихся в печати новых сочинениях Виталия. Я читал. И опять это мне не нравилось. Автор шёл не до конца, говорил не всё, местами его главной задачей было показать не саму жизнь, а какой он наблюдательный и проницательный. И вот эта проницательность не до конца, почти всегда блестящая, меня просто бесила. Какое мне дело до каких-то цензоров! Не сам ли он говорил, что литература – это только то, что на "отлично". Мне нужна правда и только правда…И не только это было мне не по нутру. Он любил похвастаться. Удача – хвалебные рецензии, членство в Союзе Писателей, скорое предстоящее вселение в новую квартиру – его распирало от удачи. А больше всего он гордился тем, что вошёл в круг писателей "Нового Мира", в гостях у него побывал сам Солженицын. Москва – это да! Ростов... "Красный бастион на Юге России", - называл он Ростовскую писательскую организацию. «Сижу на их собраниях и думаю: это я идиот или они?» Между нами была пропасть. Полный всевозможных надежд он, большой и всесторонний жизнелюб, подымался вверх, я – нечто неопределённое, погибал.
После многих раздумий и нерешительности я сказал себе: довольно спать! Я обязан что-то делать. И даже не что-то, а то, чего не сделал Виталий: рассказать правду в полном объёме о нас, пацанах Красного города Сада. Я к тому времени, конечно же, прочитал его знаменитую повесть. Написана она была по-богатырски и вовсе не про нас (а всякие сволочные критики били его именно за нас, в действительно уязвимое место), а про тётю Нину - Мулю, тёщу его. Я был покорён. Замечательно неугомонную тётю Нину, которую знал давным-давно, никогда не приходило в голову описать, и вдруг явился новый человек и обыкновенное, которое я прекрасно во всех деталях знал ещё до его появления в нашем околотке, оказалось необыкновенным.
Поздней осенью 65-го сел за стол, на несколько месяцев уволившись из очередной шараги. И повторилось то, что уже было в 57-м году. Я тихо занимался, был счастлив. И как только нечто получалось… шел к Виталию – к кому ж мне ещё было обратиться? В Ростове он был лучший, здесь у меня никаких сомнений не возникало. Да, всё повторилось. Я приносил новые страницы, он читал. Хорошо помню день, когда Виталий (он всё прекрасно про меня понимал!) встретил меня на пороге своей квартиры весь улыбка, с протянутой для рукопожатия рукой: "Поздравляю, дорогой. Ты написал первоклассную вещь. Здесь в Ростове она не пройдёт, но в "Юности", думаю, должна понравиться". О, сколько было надежд, когда и в самом деле из "Юности" пришёл ответ, что повесть они оставляют у себя и как только появится такая возможность, после некоторой доработки напечатают!
За три года я написал две повести, одна из которых была принята в журнале "Москва", другая в "Юности". В Ростове о том, чтобы напечататься, нечего было и думать, в Ростове стояла глубокая ночь, журнал "Дон", книжки Ростиздата просто в руки брать было противно. «Красный бастион», лучше не скажешь...
И опять ничего не получилось. Маленько либерального, однако вздорного и глупого Хрущева съел его любимец, законченный жлоб Брежнев. Всё жаждавшее справедливости вновь было придушено. В "Юности" и "Москве" сменилось руководство, мне рукописи вернули.
Но что я? Я был работяга, я мог зарабатывать себе на жизнь руками. А вот Виталию стало плохо. В "Правде" была напечатана статья, где Виталий назывался очернителем советской действительности. Голос "Правды" был руководством всем и вся. Виталию тоже тогда всё вернули. жить попросту стало не на что. Некоторое время они тянули на учительскую зарплату Виктории, потом московские друзья стали присылать ему рукописи на рецензирование. Была тогда такая халтура – ничто не печаталось в СССР, не пройдя сквозь внутреннее рецензирование, на самом деле цензуру. Однако из этого он умудрился сделать нечто удивительное. Его рецензии были доскональнейшими разборами предлагаемых издательствам и журналам творений всевозможных авторов, намного превышающими художественный и культурный уровень самих произведений, в основном графоманских. (Потом эти рецензии вышли отдельной книгой и, по общему мнению, стали чуть ли не лучшей частью его литературного наследия).
Рецензии, предназначенные узкому кругу лиц, в которых он мог писать всё, что думает, стали отдушиной на добрый десяток лет не печатания.
Второй отдушиной был спорт. Он был не только ум и душа, но и тело. Да ещё какое тело. Большое, требующее физических нагрузок и любящее их. Он любил бы, мне кажется, все возможные игры и виды спорта, однако доступны были велосипед, бег, байдарка, пинг-понг… Два-три раза в неделю он от дома на углу Энгельса и Халтуринского, где проживал на четвертом этаже, бежал бегом за Дон, до базы отдыха, кажется, принадлежащей газете "Молот", где у него хранилась байдарка, спускал её на воду и грёб вверх по течению вдоль берегов реки, получая от этого великое наслаждение. Мне приходилось видеть его возвращающимся из таких прогулок. Лёгкий, счастливый. Но не всегда…
Принято считать, что человек – существо общественное. По моим наблюдениям, все сколько-нибудь стоящие люди – полуобщественные, на четверть общественные. С некоторым сожалением он признавался: «К людям тянет, временами просто невозможно без таких, которые не ты сам. В то же время долгое пребывание в переполненном страстями обществе утомляет до того, что идеальным кажется затворничество в пещере».
Виталий был типичный шестидесятник одного уровня с такими общепризнанными писателями как Быков, Трифонов, Белов…Его прекрасно, на сотню лет раньше, описал Лев Николаевич Толстой. Не у одного меня первое впечатление о нём: "Да это же Пьер Безухов!" Весь какой-то трудный. Не тяжёлый, нет, но, как говорят картёжники, не в масть кому бы то ни было. Так как носимое в себе считал самым важным. Он был сам себя приговоривший разобраться в своих мыслях и чувствах и сказать об этом... Любовь была взаимной – его мечтой было написать новую "Войну и мир". Получилась только война. Да и у Льва Толстого тоже - где мир?
Благодаря радению его московских друзей и покровителей в первой половине семидесятых он всё-таки пробился к читателю. Это был роман "Нагрудный знак "ОСТ" – главная его книга, сочинять которую он начал фактически сразу по возвращении из плена.
Я знаю, как писалась эта книга. Откуда и почему она появилась.
Мстительными, иногда очень, бывают люди не только от природы не злые, но и высоконравственные, с понятием о чести. Кто видел последнюю войну, побывал в самом её пекле, тот со всем этим живёт всю остальную жизнь. Унижение великим, трудно представимым голодом, холодом, страхом, непосильным физическим трудом убийственны. Переживая выпавшую на твою долю жуткую действительность, ты спрашиваешь пространство перед собой: за что, почему? Это, в конце концов, превращается в обыденность рабства, когда в твоей голове с самых разных сторон перерабатывается одно и то же: за что, зачем, почему. Удовлетворение может принести только месть. Доказать местью, что ты тоже человек.
Виталий Сёмин, когда пришёл конец войне, и стало возможным мстить (по книге – главный герой участвует в убийстве), всё-таки никого не убил. Он пришел к выводу, что должен об этом написать, заклеймить.
Помню году в шестидесятом он показывал мне редакционный ответ на его рассказ о рабстве в Германии из какого-то московского журнала. Почти ласковый ответ с цитатой из рассказа. Она была примерно такой: «Германия была красивой. Красивы города с красивыми домами и улицами, красива земля, где каждый бугорок буквально причёсан, а в лесах каждое дерево обработано как в саду хорошего хозяина. Всё как на цветных рождественских картинках. Но у пятнадцатилетнего раба что-то случилось со зрением, глаза его застилал серый барачный цвет, на красивое они перестали реагировать».
Получая похвальные такие отказы, этот рассказ свой он улучшал, расширял, посылал в редакции уже как повесть. «Новый мир» раза два принимал её, выплачивал автору гонорар, делался набор, но где-то в верхах повесть не пропускали. И снова всё было не просто «да» - «нет», отказывая, ему предлагали изменить там-то и там-то. Он изменял, мучаясь страшно. «Напишу пятнадцать строчек за день. Прочитаю. Укушу себя за палец: да ведь опять и это не пройдёт!» Словом в результате почти тридцатилетней работы (Виталий был прекрасный рассказчик и началом этой его работы были устные рассказы, когда ещё ему не приходило в голову стать писателем), после многочисленных заморочек ему пришлось сделать героя куда более наблюдательным, проницательным, чем способен быть подросток. И мучителей немцев, и мучеников русских так, как их увидел главный герой его главной книги, мог увидеть только зрелый, хорошо изучивший человеческую природу сорокалетний писатель.
Я не стану делать разбор его романа, как когда-то, стоя у газетного киоска и читая про себя и друзей разобрал его лучшую повесть со всем возможным пристрастием. С тех пор моё отношение к нему сильно изменилось. Он сделал единственно возможное. Страдание, муки, тоска... Миллионы людей были ввергнуты, в запредельной мере измучены свершавшимся – сказать об этом надо было. Сказал он об этом как никто другой.
Его отдушиной были спорт, московские друзья, моей - многие жалкие годы он. Придёшь, поговоришь и - в полном смысле этого слова! – можно жить дальше. Бывают же такие люди – всё понимают!!!
Книгу подхватили, растиражировали. Общее мнение, моё в том числе, было: никто ещё не писал о рабстве подростка в германском плену в таком объёме, с такой полнотой. Рецензии, статьи, деньги обрушились на Виталия Николаевича. Но купался во всём этом он недолго – здоровье, подорванное голодом и непосильным трудом в литейном цехе германского завода, кончилось в пятьдесят, в семьдесят восьмом году. Вскрытие показало, что последнему его инфаркту предшествовали ещё несколько, которые он перенёс "на ногах". Только первый его инфаркт, кажется, в тридцать шесть, удивил, напугал его, стал известен всем, а потом он, видимо, научился скрывать боль.
Погубили его власть фашистская и власть коммунистическая. Многих советских людей прошлого и настоящего, и Виталия в том числе, могло бы удовлетворить, если б на Нюрнбергской скамье рядом с гитлеровскими преступниками сидели сталинские. Сам Сталин, Молотов, Жуков, Ворошилов... вся бесконечная банда убийц, задумавших с помощью запуганных, замороченных народов подчинить мир своим идеологиям. Но и через тридцать лет после смерти Виталия, несмотря на все перипетии Перестройки, я хожу по улицам имени Ленина, Ворошилова, Будённого, Жукова...
А доконал его спорт, вторая отдушина. Злоупотреблял, выжимая тяжести, бегая, отправляясь в многокилометровые прогулки на байдарке по Дону. Очень хотелось быть сильным, лёгким, красивым, а главное, хоть на время отключиться, забыть о нашей подлейшей советской действительности.
Мозаика
Читал: у какого-то народа есть поверье, что если умирает человек, а ты в первое время часто видишь его в снах, а днём на улицах случайных людей принимаешь за умершего, это значит, что покойник был хорошим человеком. Так было со мной, когда умер Виталий.
Вот он с ведром у водопроводной колонки на углу 2-й Кольцевой и Коминтерна (ныне Стачки 902-го года). Я на противоположной стороне улицы, машу ему рукой, но он меня не видит – то ли зрение даже в очках такое плохое, а скорее всего, погружён в размышления.
Вот из окна автобуса не в первый раз вижу, как он шагает вниз по Камышевахской балке в центр города, в свою газету. Обещаю себе при случае спросить у него: а обратно с работы ты как возвращаешься, тоже пешком, как-никак путь не близкий, километров семь в один конец? Так и не спросил.
Вот в девятом часу утра еду на мотоцикле по Халтуринскому, пересекая Шаумяна, вижу Виталия, прогуливающего по пустынной улице собачек Осю и Карлушу. Останавливаюсь, подхожу. Первым безумно радостный ко мне бежит Ося, сын Карлуши, за ним бежит столь же безумно, однако гневный Карлуша, оба неистово лают. Попрыгав вокруг меня, Ося набрасывается на Карлушу, защищая мою ногу, которую тот хочет укусить. Смешно.
- Одна кровь. Но сын патологический добряк, папа - патологический злюка, - говорит Виталий.
Летнее утро замечательное, о чем-то говорим, вдруг рядом оказывается почтенный Владимир Фоменко, у него сегодня вроде как день второго рождения. Рассказывает. В сорок втором бежал по Кубани и попал в глубокую яму, полную таких же растерянных из разгромленных частей Красной Армии. День и ночь пьяные особисты выдёргивали из ямы несчастных и где-то неподалеку расстреливали – выполнялся приказ Сталина: "Ни шагу назад. Трусов расстреливать на месте". По голосу Владимир Владимирович узнал одного из сослуживцев, который был там, наверху, среди расстрельщиков. Принялся кричать, называя себя. Долгое время тот, мертвецки пьяный, не воспринимал – все ведь вокруг кричали. Однако крики всё-таки дошли. Таким образом порядочнейший будущий писатель спасся.
Немцы ФРГ перевели его роман, прислали денег и вызов погостить. В сопровождении кэгебешника в качестве переводчика (в котором нужды не было, одна из первых версий романа называлась: «Заговорить по-немецки») Виталий был отправлен в гнездо капитализма. Вернулся он возбуждённый, после долгого перерыва вновь курящий, счастливый и несчастный одновременно. Германия сверкает, изобилие продуктов и товаров полное, на улицах стоят машины с ключами в замках, на сиденьях небрежно оставленные дублёнки, кейсы, фотоаппараты, сам он забыл в такси перчатки, так ведь таксист их в отель привёз, а так как Виталий с сопровождающим успели отбыть в другой город, эти перчатки тем не менее поехали за владельцем и нашли-таки его. "Как и тридцать лет тому назад, почувствовал я себя страшно униженным - всё тот же раб из рабской страны!"… Но самое большое потрясение ждало впереди. Его привезли в те самые литейные мастерские, где подростком он таскал тяжеленные горшки с жидким металлом. В памяти ожило всё до последней черточки. Его вели по заводу, а он заранее говорил какой впереди поворот, сколько дверей было в этом коридоре слева, а сколько справа, какие станки стояли в цехах. Если что-то было не так, сын того, военных времён хозяина, подтверждал, что да, при папе было по-другому.
В Коктебеле, где отдыхал, познакомился с дельтапланеристами. Дельтапланеризм в СССР не допускался: Летать! Вам только позволь, и совсем улетите. Однако монолитное общество созданное гением Сталина, давало трещины во всех направлениях. В Крыму для полётов были идеальные условия, энтузиасты не замедлили появиться. Толпа, двигавшаяся с самодельным устройством на удобную для прыжков гору, состояла как бы из трёх групп. Впереди налегке шагали матёрые, испытанные пилоты. За ними шли или просто болельщики, или те, кто целился, собирался с духом, чтобы решиться взлететь. Этим доверяли нести части крылатого сооружения. В этой второй группе был и Виталий, которому доверяли одно из крыльев. Наконец, в хвосте шествия ковыляли однажды решившиеся с переломанными руками, рёбрами. Взлететь Виталию не пришлось. Среди отдыхавших была девушка редкостной красоты. Глава шайки, надеясь на какие-то дивиденды, уговорил эту девушку полетать. Девушка разбилась, обезобразилось её прекрасное лицо. Все были шокированы, полёты прекратились. Для Виталия прыжок стал бы убийственным, он и так вскоре улетел в вечную, идеально чёрную пустоту…
_________________________
© Афанасьев Олег Львович
) - русский писатель.
Биография
- 12 июня 1927 года родился в Ростове-на-Дону в семье служащих;
- 1942-1945 - принудительная работа в Германии в качестве остарбайтера ;
- 1948-1953 - учёба на литературном факультете (отчислен, когда стало известно о пребывании в Германии)
- 1953-1954 - в административном порядке отправлен на работы на строительстве Куйбышевской ГЭС ;
- 1954-1957 - заочная учёба в ;
- 1954-1956 - сельский школьный учитель;
- 1956-1957 - получил разрешение вернуться в Ростов, преподаватель автодорожного техникума;
- 1958-1962 - литературный сотрудник газеты «Вечерний Ростов» ;
- с 1963 - редактор литературно-драматических передач Ростовского телевидения;
- 10 мая 1978 года умер в Коктебеле .
Творчество
Большинство произведений носит автобиографический характер: детство на Нижнем Дону в 1930-х и начале 1940-х годов, нацистские трудовые лагеря в Германии в годы Второй Мировой войны, работа на Куйбышевской ГЭС , учительство, журналистский опыт, жизнь на окраине Ростова. Подробно описана повседневная жизнь юга России в середине XX века, раскрыты душевные переживания людей, особенно нравственные страдания и героизм в связи с событиями Великой Отечественной войны, духовное созревание молодых героев, романтика послевоенного трудового энтузиазма и поиски личного предназначения в жизни.
Проза Сёмина выстраивается в автобиографическое повествование, изобилующее действующими лицами, отступлениями, деталями, убеждая, однако, своей наглядностью и искренностью .
Острую полемику вызвала его напечатанная в журнале «Новый мир» в 1965 году повесть "Семеро в одном доме". Виктор Некрасов писал автору: "С некоторым опозданием, зато с громадным наслаждением прочитал Вашу Великолепную Семёрку! Читал не отрываясь и всё радовался, радовался, радовался, хотя совсем не о радостном Вы пишете. И появлению статьи обрадовался, хотя, опять же, ничего радостного в этом нету… Значит, своей «видимостью правды» Вы задели, попали в точку, под самое дыхало дали.
Плюйте на статьи! Ну, не издадут отдельной книжкой, зато читателей теперь появится в 10 раз больше и журнал будут рвать на части. Не буду Вам говорить комплименты – Вы, я думаю, сами знаете цену своей вещи – скажу только, что Муля – большущая удача, что я так её и вижу, и слышу, и ощущаю, и побаиваюсь, и люблю. Да и все хороши – живые. И вообще всё это – жизнь, от которой нас в литературе отгораживают всеми силами. Отгораживают, а вот и не получается! Прорывается! Молодец Вы, Виталий. Так и держите" .
Вершина творчества писателя - роман Нагрудный знак «ОСТ» (1976).
Экзистенциальные основания прозы Сёмина критика открыла не сразу: "Семин – категорический эмпирик. Начиная с обстоятельств, с ситуации бытия. Мучительный опыт трудового лагеря. Барак. Литейный цех на военном заводе… Но не быт как таковой интересует писателя (хотя и быт схвачен и выражен с лапидарной четкостью). Семина выносит на экзистенциальный уровень смыслов. Его предмет – человек в ситуации. Самопостижение рассказчика опосредовано самопостижением автора, который к тому же пытается (с противоречивым, но очень ярким результатом) проникнуть в опыт тех, с кем сталкивает героя жизнь. Сергей, брошенный в арбайтслагерь со школьной скамьи, советский подросток, являет собой ходячую странность. У человека, входящего в жизнь, оказались искусственно разорваны многие связи с прошлым. Он – росток, который дважды вырван из почвы культурной традиции: сначала как дитя эпохи, покончившей с исторической Россией, а потом как лишенный даже советского идеологического костыля русский раб на чужбине. У него минимум внешнего опыта. «Я родился через десять лет после революции. В нашем большом доме «Новый быт», который тоже был построен лет через десять после революции, жили люди, в основном, молодые. С настоящей старухой я познакомился, когда мне было восемь лет. Мои деды и бабки умерли еще до революции. Так что и старость и сама смерть были вынесены для меня в далекое дореволюционное прошлое. И вообще все, что происходило до революции, я не просто относил лет на тридцать назад. Между мной и тем, что было когда-то, легла непроходимая пропасть. И люди, оставшиеся за этой пропастью, были не просто другими людьми – они были антиподами». Дезориентация его феноменальна. В душе его руины смыслов. Он невероятно уязвим, страшно не уверен в себе, но тянется к смыслам, приходящим извне, нащупывает их с упорством маньяка. Это, по сути, страстное желание очеловечиться у подростка, который оказался на дне бытия, по ту сторону надежды, на фоне опустошения, озверения как мейнстрима среды и эпохи. Жажда идеала, выжившая в аду и строящая опыт. Человек у Семина - альфа и омега, в вычищенном от Бога мире, где не довлеет уму и сердцу и идеология. В каком-то вот таком качестве, прежде очень редком в литературе и жизни: без духовных/идейных опоры и предпосылок, без метафизических априори. Это экстремального свойства столкновение с жизнью, беспощадная инициация. И это уже не чисто подростковая тема XX века в целом, не устаревшая и в новом столетии, при всех инфляционных настроениях в литературе и в жизни, обесценивающих бескомпромиссную волю к подлинности бытия"
В воскресенье, 22 июня 1941 года, рано утром, Валентина собралась к своим на окраину. Еще до того, как выйти замуж, Валентина ушла от родителей в заводское общежитие. Автобиографическая повесть Виталия Николаевича Семина "Ласточка-звездочка" продолжает "военную" серию "Самоката". Название серии - "Как это было" - объясняет издательский замысел: рассказать о Великой Отечественной войне честно и объективно - насколько это возможно.Виталий Сёмин - Плотина
Первая часть незаконченного романа "Плотина" является прямым продолжением "Нагрудного знака „OST"".Виталий Сёмин - Семеро в одном доме
Они пили водку, спорили о том, что быстрее пьянит - разбавленный спирт или водка. Говорили, что папироса после водки пьянит сильнее, чем две кружки пива. На них была чистая рабочая одежда. Они только что искупались под душем в саду. Душ этот самодельный. Чтобы наполнить его, надо наносить воды из водопроводной колонки. Воду носить далеко, почти целый квартал, к тому же потом с ведрами надо подняться по приставной лесенке и перелить воду в бочку. В сборник ростовского писателя В. Н. Семина (1927-1978) вошли повесть "Семеро в одном доме", роман "Женя и Валентина" и рассказы "Ася Александровна", "В гостях у теток" и "Эй!".Картина предвоенной жизни, пафос этой жизни, выраженный в мыслях, поступках людей, в приметах времени, предстают широко и подробно в романе "Женя и Валентина", который впервые издается в наиболее полном виде.
Виталий Николаевич СЁМИН
(1927-1978)
Произведения:
Повесть "Ласточка-звёздочка" (1963) - текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина - сентябрь 2009
Фрагменты из повести:
"Но немцы прилетели, и никто их не сбил.
Это произошло во второе с начала войны воскресенье. Был бестеневой, жаркий день. На главной улице города, которой обилие военной формы пока придавало лишь подтянуто-бравый, призывно-походный вид, на центральной площади Ленина было тесно от празднично одетых людей. Должно быть, все эти люди, как и ребята из Сергеева двора, еще не очень верили в войну; должно быть, у них, как у ребят из Сергеева двора, было еще довоенное представление о войне. Во всяком случае, они не насторожились, когда низко над жестяно завибрировавшими крышами раздался рев чужих авиационных моторов, не легли на асфальт, не попытались укрыться хотя бы в подворотнях, когда к реву авиационных моторов прибавился бомбовый вой.
Бомбы взорвались как раз в центре гуляющей толпы, и город, который лежал за много сотен километров и от границы и от фронта, понес первые потери. Эти потери были так неожиданно, так ошеломляюще велики, что городская администрация не столько испугалась, сколько словно смутилась их. Убитые на улицах города - это казалось чем-то вроде разглашения государственной тайны. Место, где упали бомбы, сразу же оцепила милиция, раненых и убитых вывезли в закрытых машинах, воронки тотчас заделали, асфальт присыпали песком и только тогда опять пустили на площадь прохожих."
"И вдруг Сергей наткнулся на яму. Яма была глубокой, словно ее долго и упорно рыли. Неизвестно только, куда девали землю, - края ямы были аккуратно и гладко врезаны в булыжник мостовой. Сергей первый раз в жизни видел такую яму и потому не сразу понял - воронка. Должно быть, бомба была не очень крупной - здания по обе стороны улицы остались целы, лишь вылетели стекла из всех окон да густо иссечены стены от тротуара до второго, а местами и до третьего этажа. Фантазия Сергея испуганно заработала: он представил себя здесь в тот самый момент, когда бомба рванула воздух. Мог бы он как-нибудь спастись? Если бы лег вон там, на тротуаре? Тогда бы его пробили четыре осколка, до костной белизны выщербившие стену. Сергей осматривал рваные следы на штукатурке, мысленно укладывал между ними свое тело и никак не мог уложить. Нигде между этими следами не оказывалось столько места.
Сергей прибавил шагу и опять наткнулся на яму, потом еще на одну. Бомбы, которые взрывались здесь, не уничтожали зданий, для этого им, наверно, не хватало силы. Они рассыпались на множество осколков, и в том, как тщательно прошивали осколки все пространство вокруг воронки, как густо они ложились на стены как раз на уровне человеческого роста, была не оставлявшая места надежде угроза."
"Уже к вечеру город знал - их убили.
Ночью Сергей не мог заснуть. Едва он начинал дремать, на него наваливался кошмар. Толстая, пышущая жизнью, энергичная тетка со слепыми, лишенными глаз глазницами отбрасывает со лба седые волосы и кричит: «Мы уходим! Мы уходим!» «Юда?» - спрашивает Сергея солдат и хватает его за руку. «Я не юда!» - кричит Сергей и чувствует спасительное и почему-то нечистое облегчение оттого, что страшные пальцы, сжимавшие его руку, разжимаются. Он бежит, делает огромные скачки. Немцы не преследуют его, а он все равно чего-то боится. И тут он неожиданно сталкивается с дедом Камерштейна и сразу понимает, чего боится. Ему страшно оттого, что дед Камерштейна мог слышать, как он, Сергей, кричал солдату: «Я не юда!» Сергей вглядывается в бледное, повернутое в профиль к нему лицо деда и старается понять: слышал он или не слышал? А дед говорит виновато: «Как мальчик понесет эти книги? Его же увидят в городе с еврейскими вещами...»
Сергей вскидывается на кровати и долго лежит без сна. Его нестерпимо мучает вопрос, на который нет ответа. Зачем они шли? Зачем? Почему? Без охраны, без конвоя... А если бы немцы прямо написали, что всех убьют, - и тогда бы тоже пошли? Неужели только жалкий, глупый, ничтожный обман завлек в ловушку тысячи и тысячи?
Почему, глядя на зверя, человек никак не поймет, что перед ним зверь? Почему он все ждет чего-то?
Ну зачем они сами шли?"
Игорь Дедков. Аннотация к роману "Нагрудный знак «OST»" "Во имя живых" - апрель 2007
Роман "Нагрудный знак «OST»" - ноябрь 2005
Роман "Плотина" - апрель 2006
Аннотация издательства:
Нагрудный знак «OST»: Романы.- Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1991.- 448 с.
Второй том прозы Виталия Сёмина включает главную книгу его жизни роман «Нагрудный знак «OST» - суровое и честное, наполненное трагизмом повествование о страшных годах каторги в гитлеровских арбайтслагерях, куда будущий писатель был угнан в 1942 году пятнадцатилетним подростком. В том также вошла первая часть незаконченного романа «Плотина», являющаяся прямым продолжением «Нагрудного знака «OST».
Фрагменты романа "Нагрудный знак «OST»":
Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют «опа». Oпa - дед, старик, старина, отец. Почтительно-фамильярное слово, с которым на улице можно обратиться к старому ченовеку. Впервые я услышал его в пересыльном лагере. Так называли лагерных полицейских. В пересыльном женщин отделяли от мужчин, формировали партии по возрастам, отрывали друг от друга тех, кто хотел быть вместе. Здесь все обрушивалось разом: потеря близких, голодный, на крайнее истощение, паек, оскорбление гнусной баландой. Кончались бессистемные эшелонные замахивания, начинались избиения систематические. Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били они не только специальным инструментом для избиения - гумой, резиновой палкой,- но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое выворачивающая душу ненависть. Душа выворачивалась именно тем обстоятельством, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей детской ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты: пожилой человек, интеллигентный человек, человек в белом халате - врач, или, как все мы в детстве называем врачей, доктор. Одно из самых ярких первых впечатлений в Германии: нас гонят по улице небольшого рурского городка. Только что мы носили мебель в какое-то здание, и полицейские, сопровождающие нас, даже довольны нами. По тротуару идут две нарядные молодые женщины с нарядными детьми. Дети кидают в нас камни, и я жду, когда женщины или полицейские остановят их. Но ни полицейские, ни женщины не говорят детям ни слова.
И еще поражает и выворачивает душу: идет сорок второй год, немцы воюют в далеких чужих землях, война к ним иногда прилетает на самолетах. Рурские городки стоят целые. Целы новый асфальт и булыжник старинных мостовых, целы витрины многочисленных маленьких и крупных магазинов. Откуда же эта энергия слепой, не выбирающей в нашей толпе ни старших, ни младших ненависти? Ведь нельзя же просто так с утра, как чашкой кофе, заряжаться ненавистью. Это ведь не будничное чувство. А между тем энергией своей, последовательностью, организованностью и каким-то всеобщим будничным распространением эта обращенная на нас жестокость и поражает. И еще странно - есть в этой жестокости парадность, форменность, официальность и частная инициатива. Полицейская, гестаповская форма или штатский костюм - все равно. Есть в ней и интонация. Голос, набирающий полицейскую пронзительность, поднимающийся на все более и более высокие тона.
Предстоял полный день без хлеба и почти без еды. И длина его измерялась голодом. Когда внизу поднималась суета и тяжелый термос грохал о цементный пол, вслушивался весь лагерь. Количество этих ударов подводило итог голодным надеждам.
Сейчас, через столько лет после войны, голод можно представить как сильное желание есть, как физическое недомогание. Однако голод - нечто другое. Он не только меняет дыхание, частоту пульса, вес и силу мышц, он обесцвечивает ощущения и сами мысли, не отступает и во сне, изменяет направление мыслей. И, может быть, самое страшное - меняет ваши представления о самом себе. И уж совсем особое дело - голодание многих людей, запертых в одном месте.
Когда голод достигает степени истощения, у него появляется горячечный, карболовый, тифозный запах, которым невозможно дышать. У голода послабее пресный гриппозный запах, изменяющий вкус хлеба и табака. В этом неотступном гриппозном недомогании все полы кажутся цементными, все стены - лишенными штукатурки. Это бесшумный и непрерывный метод полицейского давления, и, может быть, поэтому главное - не показать, как ты голоден. Не сразу я, конечно, понял, что дело не только в сохранении лица. Кто сохраняет чувство собственного достоинства, сберегает по каким-то важным жизненным законам и больше шансов на жизнь.
В первый десятиминутный перерыв немец, сидя на скамейке со своей стороны вальцов, съедает бутерброд, выкуривает сигарету, и сладковатый запах слабого немецкого табака тянет через вальцы на нашу сторону. На время перерыва свет пригашен, и не видно, как мучает нас этот запах.
Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я испытываю страх и стыд: ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне другое казалось страшней. Но постепенно самым удивительным мне стало казаться то, что никому из многих сотен молодых и пожилых, веселых и злобных в голову не пришло дать мне хлеба. У меня ведь особый счет. Они взрослые, а я мальчишка. Я сам был разочарован в себе. Мое лишенное белков, солей, витаминов, истерзанное усталостью тело не давало мне секундной передышки. Страдание переутомлением, голодом, страхом, лагерным отчаянием было так велико, что тело становилось сильнее меня. Только бы сесть, лечь, прижаться к теплу. Они тоже жили на карточки. Сверхнапряжение государственной злобы, оплетавшее их, я чувствовал сильнее, чем они. Было нелогично дать мне хлеба. Но должна же была у кого-то из них в один из рабочих перерывов появиться такая нелогичная мысль!
За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях. Но только обжигался. А что можно рассказать криком! Слух послевоенного человека уже не настроен на крик. Живая память сопротивляется насилию, может, больше, чем живой человек. Кровеносными сосудами она связана с твоей жизнью. Нельзя изменить память, не рассекая сосуды. Но чем дальше прошлое, тем короче в нем время, тем легче в этом коротком времени самые страшные несчастья. Старчески уступчивой делается память, сталкиваясь с новыми интересами. А живое, сегодняшнее нетерпение готово многим пренебречь. Однако чем правдивее воспоминания, тем больше в них дела.
Фрагменты романа "Плотина":
Штаб располагался в здании бывшего заводоуправления. В окнах первого этажа горел свет, я заглянул в окно и сразу увидел отца. Он сидел спиной к окну. Мне были видны только его затылок и плечи, волосы его побелели, одет он был в гимнастерку, но я сразу узнал его. Сидел он так, как всегда сидел среди чужих - чопорно-вежливый, напряженный, стесняющийся своей глухоты человек. И гимнастерка у него была как раз такой, какой она должна быть у моего отца,- не новой, но почти как новой: выстиранной и выглаженной будто не в прачечной, а своими руками и будто не позже, чем сегодня утром.
В комнате, куда я вбежал, отец поднимался, поднимался мне навстречу и никак не мог подняться со стула. А я смотрел на его плечи. Пока я бежал сюда, я надеялся - раз уж мне привалило счастье,- что отец по званию окажется старше майора Панова или, по крайней мере, будет равен ему, а отец был совсем без погон...
Потом он долго и беззвучно плакал. Вытрет слезы платком или ладонью, решительно так вытрет - все, кончил плакать! - и тут же глаза его опять начинают страдальчески таять. Так мы с ним молча сидели несколько минут, и я все время с неудобством чувствовал, как много в комнате людей. Наконец он решился заговорить. Голос еще не повиновался ему:
- Уже, наверно, куришь?
У меня не было слез, когда писарша сказала, что приехал отец, я не прослезился, когда вбежал к нему в комнату штаба, а тут мне неудержимо захотелось плакать. Он говорил, а я вспоминал то, что старался, но никак не мог передать ему о себе, о Германии. О том, как тяжко и страшно мне было там, как свирепо меня избили в первом лагере и как били потом, как я ходил со сломанной рукой в гипсе, а под гипсом завелись вши, и я, не выдержав зуда, сломал гипс. Как лагерный придурок Иван говорил мне «по-доброму»: «Ты не жилец. Может, и дотянешь до конца войны, но все равно не жилец». Как я зимой и летом ходил в рваном пиджаке на голое тело, в рваных брюках и деревянных колодках. И еще вспоминалось мне, как я окончательно стал доходягой, который, разгибаясь, видит перед собой оранжевые круги, и как я учился, силился скрывать, что я доходяга, потому что это был единственный способ сохранить к себе уважение и, следовательно, надежду на жизнь.
Когда защитного цвета «джипы» и «доджи» втянулись на улицы Лангенберга, мы уже могли угощать американцев табачной продукцией ограбленной немцами Европы: французскими, голландскими, бельгийскими сигаретами. И одно из первых открытий - американцы отказываются от европейских сигарет. Свои им больше нравятся.
Пришла богатая, почти не воевавшая, не сносившая на фронте и одного комплекта обмундирования армия. При всей готовности к симпатии это было тем, что делало непонимание почти непреодолимым.
За то, что опыт их был таким, а не другим, миллионы людей сложили головы. Те, кто сидел в «джипах», и «доджах», мало что об этом знали. Им страшно повезло, и мы не могли им этого забыть. Хотя и винить их как будто не за что. О немцах, их жестокости, военной ожесточенности американцы знали не с чужих слов. Они ведь сами воевали на этих лучших европейских землях, на лучших европейских автострадах. У них был собственный воинский опыт, и именно это делало непонимание почти непреодолимым. Мы были участниками одной и той же войны. Но их война лишь отдаленно напоминала нашу. Нам казалось, что страх смерти, который испытали они, легче всего сравнить с испугом. Они не знали других его лиц. Голодного удушья, истощения унижением, непосильным трудом. Не знали того, о чем рассказать можно только тому, кто сам это испытал. Ведь пропустивший обед говорит о себе: «Я голоден». А проработавший сверхсрочно час: «Я устал». И спорить бесполезно. Собственный опыт несомненнее всякого другого.
Мы сразу заметили, как много места они занимают в пространстве. А они, должно быть, поразились, нашей изможденности. Но, может, худобу они невольно отнесли к нашим природным качествам. Ведь, честно говоря, нам самим уже трудно было представить себе, какими мы были.
У каждого нашего истощения была своя история, свое лицо, свои гибельные этапы. Мы сами не понимали, как уцелели на каждом из них. Что же об этом можно рассказать тем, кто их не прошел?
Дважды немцы брали мой родной город. В декабре сорок первого они продержались всего десять дней. Их было немного. Но, когда они откатились на своих мотоциклетках и автомобилях, город застонал потрясенный. У жестокости, которая после них осталась, не было названия, потому что у нее не было причин и границ. Хоронили несколько сот человек. Это были случайные прохожие или жители домов, около которых нашли мертвых немцев. Люди успокаивали детей, кипятили воду, а их выгнали на улицу и поставили к стене родного дома. Должно быть, переход от простейших домашних дел прямо к смерти особенно невыносим. Нелепа смерть у стены своего же дома. Наверно, они не верили до последней секунды. И тем, кто их хоронил, этот переход казался особенно ужасным. Ведь они тоже в этот момент что-то делали у себя дома или куда-то собирались идти.
Выгоняя людей из кухонь и подвалов, куда в эти дни переместилась жизнь, останавливая их на улице, убийцы показывали, что все горожане для них одинаковы. Это была какая-то новая смерть и новый страх, при котором стали опасны и домашние стены и улица, которой идешь. Было непонятно, как на все это могло хватить злобности. И осталось странное ощущение, что стреляли не серые фигурки в шинелях и плащах, а те мотоциклетки, на которых они разъезжали по городу. Так мало во всем этом было человеческого.
В городских скверах немцы оставили несколько своих могил: крест и солдатский шлем на холмике. Мы ходили на них смотреть, будто похоронены там были не люди, а те же стреляющие мотоциклетки.
Некоторое время могилы стояли нетронутыми, но потом кто-то решил, что убийцы и убитые не могут лежать в одной земле, трупы вывезли за город, а могилы разровняли. Когда немцы захватили город второй раз, они стали разыскивать тех, кто принимал в этом участие. Понятно, тех, кто решал, они не нашли и расстреляли мобилизованных мальчишек-подводчиков.
Во второй раз немцы продержались дольше и убили гораздо больше людей. Так почему они могли убивать сто за одного, а я не решаюсь одного за сто? Разве есть другой способ расквитаться? И как иначе избавиться от памяти, которая давит меня? Может, неполноценность, о которой толковали эти стреляющие мотоцклетки, и есть отходчивость?
А забыть было из-за чего. На руке его была синяя татуировка - четырехзначный концлагерный номер. В концлагерь он попал за побег из лагеря военнопленных.
- Два треугольника носил,- сказал он,- на груди и спине. До сих пор в этих местах притронуться больно.
- Почему? - спрашивал я.
- Треугольники - мишень. Чтоб стрелять в тебя было удобней. Все время их чувствуешь. Кожу обжигает.
- Чем? - не понимал я.
- Ну, ожиданием,- говорил он.- Ждешь все время. Казнили в концлагере почти каждый день.
- Немцев дезертиров последнее время часто привозили,- сказал Яшка.- Привезут, выпустят, они по двору ходят, но мы понимаем, долго в лагере не пробудут.
- Увезут?
- Убьют. День-два походят, на работу вместе со всеми выгонят, а потом казнь. Нас всех в бараки загоняют - это мы уж знаем, немцев казнить. Если русского, поляка, бельгийца или француза убивают, наоборот, всех выгоняют на плац.
- Почему?
- Ну, высшая раса. Чтобы мы не видели, как немцев убивают. И чтобы видели, как наших казнят.
Эти Яшкины рассказы вызывали мучительнейшее любопытство.
Повесть "Семеро в одном доме" (1965) - текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина - июль 2009
Фрагмент из повести:
"Бывало, как на заем подписываться, так по цехам крик. К начальнику цеха таскают, в профком, в партком. Я говорю: «Двадцать пять процентов дать могу, а больше ни копейки». Я, Витя, не против займов. Я понимаю - деньги идут не кому-то там в карман, на строительство новых заводов, больниц - я все это понимаю. И хоть трудно мне, говорю: «Двадцать пять процентов могу дать». А они мне говорят: «Подписывайся на сто процентов». Целый день держат в парткоме, у директора завода. «Подписывайся!» Я говорю: «Вы грамотные? Берите карандаш, давайте считать. На что вы меня толкаете?» - «У нас, говорят, все должны подписаться на сто процентов, а ты нам портишь картину. Подпишись, а мы тебе поможем хорошими заказами». - «Вы люди или не люди? Не могу я подписаться на сто процентов». Тут они мне все припомнят: и про то, как я их ругала, и как голосовала против соцдоговора, и как директору нагрубила: «Мы давно видим, Конюхова, ты не наш человек». Я им говорю: «С мужиком вы так не поговорили бы, мужик фуганул бы вас по-русски, чтоб перья от вас полетели. Смотрите, а то и я вас пошлю подальше». Так и не подписалась на сто процентов."
Повесть "Сто двадцать километров до железной дороги" (1964) - текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина - декабрь 2009
Фрагмент из повести:
"Фамилия одного из тех, кого я должен был взять на свою совесть, - Парахин. Здоровый парень, ему скоро в армию идти. Учится он с перерывами, года два зимовал с отарами на Черных землях. Ни отца, ни матери, ни старших братьев - младший брат есть. Воспитывался у полуглухой бабки и с запозданием научился говорить. Меня поразил его затравленный взгляд, именно затравленный, - когда я у него что-то спросил. Сидит за партой крепкошеий, загорелый, сильный человек, давит на парту тяжелыми локтями, медленно поворачиваясь всем корпусом, следит за мной, когда я хожу по классу, и вдруг начинает бледнеть, когда я у него что-нибудь спрашиваю. И в глазах этакая затравленность.
- Скажи, Парахин, ты понимаешь, что такое часть речи?
- Понимаю.
- Назови мне какую-нибудь часть речи.
Молчит."
Повесть "Женя и Валентина" - текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина - январь 2010
Фрагмент из повести:
"...Играешь, например, в карты, мат стоит. Ты кричишь партнеру: «Такой-сякой, карту передергиваешь!» - «Кто передергивает?» - «Ты, так и перетак!» - «Что ты сказал? А ну, повтори!» Вот тут повторить нельзя. Ты кричишь: «Да я тебя в ухо, в глаз, в сестру, в отца и всех родственников!» Он и успокаивается. А если это у тебя не в крови, не в нервах - сбиться можно, тебя и заподозрят. Я многое знал, многое умел, но не все, а главное, ненавидел их. Ты говоришь, справедливость - несправедливость! Я на людей насмотрелся. Люди не за справедливостью идут - за силой. Это вы, интеллигенты, путаете. Я тебе скажу - в истории ничего, кроме силы, не было. Любая общественная организация на стороне тех, у кого нервная система сильнее. Я воров ненавидел, но я их и сейчас уважаю за силу духа. Сила - это ведь, Миша, не мышца, а дух. Понял? Это надо видеть."
Рассказы: - текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина - июнь 2009
Ася Александровна
В гостях у тёток
Хозяин
На реке
Эй!
Тридцать лет спустя
Фрагменты рассказа "Тридцать лет спустя":
В июне - война, в сентябре призван и направлен в артиллерию: грамотен - как-никак учитель. В военкомате, где отбирали грамотных, первое военное впечатление - как еще малограмотна Россия! В октябре под Можайском первый бой. Там был небольшой наш успех, немцев немного потеснили и сразу же туда бросили полк «сорокапяток» и семидесятишестимиллиметровых орудий, в котором почти все были такие же новобранцы, как он. Там же первая рукопашная. Пехота ушла, батарея осталась без прикрытия, немцы, появившиеся перед пушками, были совсем неожиданными. Батарея вела огонь, карабины солдат лежали на зарядных ящиках. Если бы не лес, немцы перебили бы всех. Но деревья мешали автоматчикам. Отбивались банниками, лопатами. И второе сильнейшее военное впечатление - первый немец, убитый собственной рукой. Какое чувство он испытал? Облегчения, огромного облегчения. Вот-вот он должен был умереть, точно должен был умереть - что можно сделать лопатой против автомата! Но как-то исхитрился, ударил первым, и теперь - мертвый он. Потом окружение. От полка осталось не более ста человек. Пушки везли на себе - лошадей съели по дороге. Жевали ремни, голенища, кору. Погода - утром и днем дождь, к вечеру гололедица и мокрый снег. Огня не разводили, спать ложились прямо на земле. За ночь мокрая шинель становилась коробом, примерзала к земле. Утром отрывались от земли, оставляли куски шинели. Фронт переходили под Тулой. Били по ним и немцы, и наши. Пришло сорок четыре человека. Особисты их тут же разоружили, посадили под охрану. Спасло то, что вынесли с собой знамя. Часть сохранили. Две недели на переформировку - и в наступление. В первый же день - контузия. На бруствере окопчика разорвалась крупная мина. Осколки прошли верхом, ударило взрывной волной. И тут же ушел надолго. Очнулся через два месяца на Урале в госпитале. Парализованы правая рука и нога. Через месяц все-таки встал, нога кое-как отошла. Белобилетник, освобожден навсегда. Выписали из госпиталя инвалидом второй группы. Пошел в военкомат проситься в армию. Городок маленький, медицинская комиссия - те же госпитальные врачи. Долго их уговаривать не пришлось - время не то. «Мы вас предупредили. Мы за вас не отвечаем». Запасной полк - и под Ржев. Две недели на фронте. Что было под Ржевом, все знают. На пятнадцатый день ему осколком снаряда перебило голень. Шел восстанавливать телефонную связь, перебежал под огнем особо опасный участок, а потом его ударило. Нога в валенке подвернулась, он вскочил - и стал на культю. Упал на снег. Мороз - градусов тридцать, лежал несколько часов, стараясь не заснуть. А потом заснул. Очнулся в сарайчике. Человек двадцать раненых на полу, керосиновая лампа, рядом с железной печкой подобие хирургического стола. Положили на стол. Валенок полон замерзшей крови. Разрезали валенок, оттаяли кровь, вытащили осколок снаряда и осколки кости, перебинтовали. На следующий день плохо, потом еще хуже. Сменили повязку. Нога под повязкой почернела и раздулась. Надо ампутировать - гангрена. Ампутировать не дал. Отрезали бы, не спрашивая разрешения, но у него был пистолет, от боли он спать не мог - на снегу отоспался, - и, когда к нему подходили, грозил пистолетом. Еще день продержали в сарайчике, потом упаковали в специальную корзину, подвесили под крыло «ПО-2» (так тогда перевозили раненых) и опять на Урал, в тыловой госпиталь. Десять дней прошло с тех пор, как нога у него почернела, а он все жив. В госпиталях он на многое насмотрелся. Говорит врачам: «За десять дней не загнулся, значит, не гангрена». И правда - просто сильное обморожение. Два месяца в госпитале на Урале. Стал ходить на костылях - перебитая правая нога на тринадцать сантиметров короче левой, кость срослась неправильно. Однажды раненым показывали кино, военный фильм «Ястреб», после сеанса спускался по мраморной госпитальной лестнице со второго этажа - госпиталь располагался в здании бывшего горисполкома, - на скользких ступеньках костыли разошлись, он покатился по лестнице вниз и сломал больную ногу. Удачно сломал. Когда кость на растяжках выправили, нога удлинилась. Теперь она была только на три сантиметра короче здоровой. На этот раз он уже не просил врачей отправить его на фронт - инвалид!
И опять на фронт. Посадили их на десантную баржу и ночью отбуксировали к Новороссийску на Малую землю. Высадились сравнительно благополучно. Вытащили минометы, стали зарываться в землю. Но земля эта - не земля, а мергель, слоеный камень, щебень, идущий в цемент. Зарываться в такую землю - ночи не хватит. Утром их накрыли огнем в их неглубоких окопчиках немцы со своих прекрасных позиций на Колдун-горе. С анапского аэродрома шли «Мессершмитты-110». Мергель при взрывах снарядов и авиабомб давал мелкие осколки, осколки били руки и лицо. Кожа на лице стала вся в крапинках, как у шахтеров. В первый же день половины прибывших ночью не стало. Ночью опять пришли баржи с пополнением и водой, а днем опять почти половина прибывших погибла. Бывали дни, когда пополнение вообще не приходило - немцы топили баржи еще на подходе. И тогда сутки жили без воды, без еды, сутки в постоянной белой цементной пыли, которая висела над Малой землей. Убитых хоронить было невозможно. Вначале пытались, но каменистая земля не поддавалась киркам и лопатам. Тогда убитых стали сбрасывать в море. Трупы прибивало к берегу. У пляжей Малой земли был венок из плавающих трупов метров на пятьдесят.
Несколько раз ходили в атаку на Новороссийск, но немцы атаки отбивали.
Два с половиной месяца - с июля по сентябрь - он провел на Малой земле и не был даже ранен. Только царапина на тыльной части кисти. Как он научился воевать, как научился влезать в землю, распластываться на ней, как он ненавидел немцев и как умело убивал их!
К голоду он только никак не мог привыкнуть, хотя и голодал он как-никак с четырнадцати лет. И еще мучила его на Малой земле жажда. Доходило до того, что он не выдерживал пытки и набрасывался на морскую воду. В первый раз выпил с полстакана и потом целый день его жестоко жгло и мутило. Он закаялся, но через неделю опять не выдержал и снова хватал растрескавшимися губами горько-соленый раствор.
Немцев выбили из Новороссийска в сентябре. Наступавшие с Малой земли соединились в городе с теми, кто шел с юга. Немцев - наконец-то добрались до них! - гнали так, что не всем этих немцев хватило. Они как-то сразу рассеялись. Испарились. Удар, в котором должно было быть и искупление, и освобождение от ярости, голода, злости, частично пришелся по своим. Сошлись и не сразу узнали друг друга.