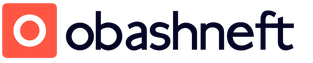Гадкие лебеди. Таинственность и человеческая противоестественность «Гадких лебедей» братьев Стругацких
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Гадкие лебеди
Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, – это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, не думала плакать, она была в бешенстве.
Да, подумал Виктор, и с этой женщиной я жил. Я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах… Кажется даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как она меня выпустила? Наверно, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.
– Тебе, конечно, не до того, куда там, – говорила Лола. – Столичная жизнь, всякие балерины, артистки… Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги конечно, бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы… Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел…
Вообще ее губит то, что она очень много говорит, в девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя надо вести. Она знала. Вообще то она и сейчас ничего, когда сидит, например, молча, на диване с сигаретой, выставив колени… Или заломит вдруг руку за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно… Виктор представил себе уютный вечерок, этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, закованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма… Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина…
– Ты сам должен понимать, – говорила Лола, – что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. – Она уже успокоилась, красные пятна пропали. – Я знаю, ты по своему честный человек не взбалмошный, разболтанный но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь… Счастливой я себя назвать не могу, но и несчастной тебе не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь у меня своя. Я, между, прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди…
Девочку придется забрать, подумал Виктор, она уже все, как будто, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный… Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки… Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно конечно взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру… Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой… Говорят, дети, которых воспитали отцы, – самые лучшие дети. И потом она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще, я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но то все литература. А если честно? Если честно-боюсь. Потом она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаться большим ртом, и что я сумею ей сказать? Читай больше, читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Он это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Потому и боюсь… Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому… Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.
– Что же ты молчишь? – спросила Лола. – Ты так и собираешься молчать?
– Нет-нет, я слушаю тебя, – поспешно сказал Виктор.
– Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты изволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов…
А с ней тоже надо честно? – подумал Виктор. Вот уже с ней мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, за двумя сигаретами.
– Пойми, – сказала Лола, – я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не можешь, и слава богу, что ты не возьмешь. Ты ни на что такое не годен. Но у тебя же связи есть, знакомства, ты все-таки известный человек, ты помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке…
– Пансион, – сказал Виктор. – Да конечно. Пансион. Сиротский приют… Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.
– А что тут думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансионат или в специальную школу. Жена нашего директора…
– Слушай, Лола, – сказал Виктор. – Это хорошая мысль, я попробую что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу…
– Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать лично, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездомник! Все равно только пьянствуешь и с девками путаешься. Неужели так трудно для родной дочери…
О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошел по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.
– Ах, как ты мне надоел! – сказала Лола с неожиданной злостью. – Если бы ты только знал, как ты мне надоел…
Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее, все равно сегодня я ничего ей не отвечу. И ничего не стану ей обещать.
– Ни в чем на тебя нельзя положиться, – продолжала она, – негодный муж, бездарный отец… Модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел… Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что ты делаешь? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне…
– Брось, Лола, – сказал Виктор, морщась. – Ты все-таки, знаешь, как-то… Я отец, то верно, но ты же мать… Все у тебя кругом виноваты…
– Убирайся! – сказала она.
– Ну вот что, – сказал Виктор. – Ссориться я с тобой не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты… – Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением ринуться в свару.
– А ты, – спокойно сказал он, – постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.
Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.
– До свидания, Лола, – сказал он. Лола не ответила.
На улице было уже темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда не было, а был пустырь, а за пустырем свалка, там мы охотились с рогатками на кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу… И ни черта мы тогда не читали, а у Ирмы полна комната книг. Что такое была в мое время
Только что я посмотрела один из самых лучших российских фильмов последних лет. Сразу скажу, что не воспринимаю российские комедии/ужасы и фильмы о крутых парнях, поэтому с ними даже сравнивать не буду. Каждому своё. Я говорю о серьёзном кино. И даже не об «Острове», и не о нашумевшем «12», который сам по себе являлся лишь римейком более старого образца и ничего нового не добавил. Фильм «Гадкие лебеди» я ставлю в один ряд с шедеврами Тарковского и с недавно просмотренной «Пылью». Не сравниваю, а просто ставлю рядом. Кто смотрел, тот поймёт почему.
Кино не для всех. И от этого становится особенно грустно. Потому что кино умное, интересное, задевающее за живое. К сожалению, или к счастью, я ещё не читала то произведение Стругацких, по которому был снят этот фильм. Это у меня ещё впереди. Так что я не стану сравнивать, а смогу просто оценить кино, как произведение искусства.
В двух словах о сюжете. В небольшом российском городке стали происходить аномальные явления. Всё время идёт дождь, вокруг наблюдается «инфракрасное свечение». Причём от дождя грубеет кожа, выпадают волосы. Примерно в это же время в городе появились так называемые «мокрецы». Никто не знает, являются ли они людьми или уже нет. «Они не такие как мы», вот и всё, что могут сказать о них окружающие. И разумеется всем сразу стало страшно, ведь тот, кто не похож на нас, должен оказаться врагом. Мокрецы обладают каким-то невиданным знанием и пытаются донести его до людей, но никто очевидно не хочет их слушать. Кроме детей.
В городе была школа-интернат для гениальных детей. Теперь их учителями и стали мокрецы. В город понаехали военные, идёт вопрос о судьбе города, а главное, никто не знает, что делать с этими детьми, которые теперь тоже стали весьма странными и пугающими, и что делать с мокрецами. То, что их нельзя выпускать с этим согласны все.
И вот в этот город приезжает наш герой, писатель и отец одной из девочек. Он пытается разобраться в происходящем и спасти свою дочь. Он понимает, что людям всё равно, что станет с детьми, раз они перешли на сторону мокрецов. Люди всегда хотят избавиться от тех, кто на них непохож они чувствуют в них угрозу. Дальше рассказывать не имеет смысла, надо смотреть, надо слушать, а главное, надо хотеть понять.
Слова, диалоги, монологи, вопросы и ответы это надо слышать. Это надо понимать. То, как дети говорят совершенно взрослым языком о том, о чём дети обычно не задумываются Своими суждениями, своими вопросами они ставят взрослых в тупик. Они мыслят по-другому. И взрослым становится страшно.
В фильме много интересных мыслей, наверняка они пришли сюда из книги. Чего стоит одна идея о тоске. О том, что иным можно стать, когда в тебе много этой тоски, когда ты ещё в состоянии это испытывать. Тогда возникает неприятие жизни, окружающей действительности и желание, дикое желание всё изменить. С возрастом это проходит, пропадает желание перемен.
В меру оригинальная съёмка. Город, в котором всегда дождь. Напомнило фильмы Алекса Прояса «Ворон» и «Тёмный город». Старые здания, кругом царство упадка и деградации. Вода капает и с неба и с потолка, вода в подъезде, в картире, везде. И всё это имеет оттенок красного из-за того странного света, идущего, кажется, прямо с неба.
Порадовала актёрская игра. Без излишней театральности и пафоса, но с чувством. Таким людям веришь. Мне даже дети понравились. Особенно дочка главного героя и самый маленький мальчик. В речи остальных было что-то от роботов, но в целом это не раздражало и смотрелось уместно.
После фильма взглянула на себя по-другому и так стало страшно Захотелось что-то изменить, себя, других, чтобы остановить эту тотальную деградацию, убийство человечеством самого себя. Так хочется, чтобы жизнь наша была яркой, солнечной и необыкновенной.
Авторы описывают западноевропейскую страну периода примерно 1960-х годов. Главным героем является Виктор Банев, писатель-ветеран и выпивоха. Своим немного разнузданным поведением он провоцирует правителя страны Президента и сам понимает потребность скрыться подальше из столицы и уезжает в родной город.
В этом небольшом городе обитает его бывшая супруга по имени Лола и общая дочь по имени Ирма. Дочка активно общается с так называемыми мокрецами, собственно, относительно этих мокрецов и двигается дальнейший сюжет.
Эти странные люди с желтыми кругами около глаз обитают в городском лепрозории. Здание охраняется военными, но туда есть доступ и особенно к мокрецам притягиваются дети, которые обожают этих мутантов и ходят к ним учиться. Мокрецы в свою очередь предстают чем-то подобным духовным лидерам и людьми новой эпохи, как говорят в городе, они питаются книгами и не могут без литературы, поэтому в лепрозорий отправляют грузовики книг.
Также мокрецов считают в городе причиной непрекращающегося дождя, который появился с приходом мокрецов и, как узнают читатели в завершение, исчезнет с уходом таковых. Помимо этого в городе много других странностей, которые связывают с мокрецами и паранормальными способностями этих странных людей.
В городе также есть часть людей, которые настроены против мокрецов: молодчики из пролетариата, бургомистр и полицейский. Они регулярно ставят капканы на мокрецов, останавливают грузовики с книгами и чинят другие пакости. Банев, в целом нейтральный к мокрецам изначально, принимает сторону обитателей лепрозория, так как другая сторона ему не нравится абсолютно.
Также Виктор встречается с детьми, которые обучаются у мокрецов, он поражается зрелому мышлению и оригинальным суждениям этих молодых людей. По стандартным мерками каждый из них является вундеркиндом и не простым, а с высокими моральными ценностями.
Банев обитает в санатории, там работает его любовница и подруга Диана, которая помогает мокрецам и дает лекарства. Иногда он проживает в гостинице, где по вечерам напивается в ресторане и обсуждает мокрецов с другими жителями города: Юлом Големом (главврач лепрозория), Ремом Квадригой (спившийся художник), Павором Сумманом (санинспектор).
Голем считает мокрецов чем-то наподобие людей будущего, которые прибыли оттуда чтобы не допустить печального развития событий. Собственно, по итогу роман приводит читателя именно к такому выводу. Этим также объясняется и тяга детей к мокрецам, которые передают подрастающему поколению нужный опыт, чтобы они могли создать новое и процветающее человечество.
Банев спасает одного из мокрецов от бургомистра, защищает его. Также он доставляет задержанный полицейскими грузовик с книгами. Этим он заслуживает доверие мокрецов.
Павор Сумман участвует в похищении мокреца, так как он оказывается иностранным шпионом. Банев сдает его контрразведке и в награду получает медаль «Серебряный Трилистник» 2-й степени. Теперь он может вернуться в столицу, Президент снова благосклонен, но Виктор остается в городе.
Дети тем временем полностью перебираются к мокрецам, в городе остаются только взрослые. Мокрецы начинают эвакуироваться из города, они обучили детей и теперь могут уйти, с Баневым прощается мокрец Павел Зурзмансор, который ранее был супругом Дианы, потом уезжает и Голем. Дождь прекращается.
Диана с Баневым снова оказываются в городе, который теперь залит приятным светом. Банев говорит про себя: «всё это прекрасно, но только вот что - не забыть бы мне вернуться».
Картинка или рисунок Стругацкие - Гадкие лебеди
Другие пересказы для читательского дневника
- Краткое содержание Казакевич Звезда
Из-за весенней распутицы наступление советских войск было приостановлено. Среди бескрайних лесов Западной Украины застряли в грязи санитарные автобусы и машины с продовольствием, артиллерийский полк и обоз с боеприпасами.
Знаменитая комедия показывает нам семью Простаковых, где одним из главных героев оказывается глупый подросток Митрофанушка, который совсем не учится.
1
Гадкие лебеди, прекрасный утенок -
контаминация заглавий сказок Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок» и «Дикие лебеди» (перевод А. Ганзен) и инверсия первого из них.
В кругу семьи и друзей
Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это – жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала – просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.
Да, подумал Виктор, и с этой вот женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах… кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.
– Тебе, конечно, не до того, куда там, – говорила Лола. – Столичная жизнь, всякие балерины, артистки… Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы… Мне это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел…
Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она – знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки… или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно… Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма… Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина…
– Ты сам должен понимать, – говорила Лола, – что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. – Она уже успокоилась, красные пятна пропали. – Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой.
Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь… Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня – своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди…
Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный… Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки… Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру… Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой… Говорят, дети, которых воспитали отцы, – это самые лучшие дети. И потом, она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно – боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь… Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому… Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.
– Что же ты молчишь? – спросила Лола. – Ты так и собираешься молчать?
– Нет-нет, я слушаю тебя, – поспешно сказал Виктор.
– Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов…
А с нею тоже надо честно? – подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.
– Пойми, – сказала Лола, – я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек – помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке…
– Пансион, – сказал Виктор. – Да, конечно… Пансион. Сиротский приют… Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.
– А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора…
– Слушай, Лола, – сказал Виктор. – Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу…
– Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери…
О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый – дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.
– Ах, как ты мне надоел! – сказала Лола с неожиданной злостью. – Если бы ты знал, как ты мне надоел…
Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.
– Ни в чем на тебя нельзя положиться, – продолжала она. – Негодный муж, бездарный отец… модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел… Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне…
– Брось, Лола, – сказал Виктор морщась. – Ты все-таки, знаешь, как-то… Я отец, это верно, но ты же мать… Все у тебя кругом виноваты…
– Убирайся! – сказала она.
– Ну вот что, – сказал Виктор. – Ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты…
Она теперь стояла выпрямившись и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.
– А ты, – спокойно сказал он, – постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.
Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.
– До свидания, Лола, – сказал он. Лола не ответила.
На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем – свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу… И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них – точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам… Времена новые наконец наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже… А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я – отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да, в конце концов, и не почетно вовсе… А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного…
На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего – в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более – не слышно азартного гиканья и жеребячьего ржания… Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул:
– Отставить!
Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория – «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз, – в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода.
– Что случилось? – спросил Виктор.
Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти… Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.
– Милый, – сказал Виктор, – хватит.
– Мне показалось, что вы еще не очнулись, – сказал мальчик серьезно.
Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка – ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.
– Кто же это меня? – задумчиво спросил он. – Надеюсь, не ты?
– Вы сами сможете идти, господин Банев? – сказал мальчик. – Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.
Виктор вспомнил, кто это.
– Я тебя знаю, – сказал он. – Ты – Бол-Кунац, приятель моей дочки.
– Да, – сказал мальчик.
– Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.
Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.
– Я все-таки кого-нибудь позову, – сказал Бол-Кунац.
– Стоит ли?
– Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.
– В самом деле? – Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось. – Это тебе только кажется… Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги… – Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. – Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом… – Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. Чем же это меня? – подумал он. Да ведь как ловко…
– Вы наступили себе на плащ, – сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.
– Ага, – сказал он. – Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.
Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.
– Куда же они все делись? – спросил Виктор.
Мальчик не ответил.
– Я тут один лежал? – спросил Виктор. – Вокруг никого больше не было?
– Давайте я вас провожу, – сказал Бол-Кунац. – Куда вам лучше идти? Домой?
– Погоди, – сказал Виктор. – Ты видел, как они хотели схватить очкарика?
– Я видел, как вас ударили, – сказал Бол-Кунац.
– Я не разглядел. Он стоял спиной.
– А ты где был?
– Видите ли, я лежал тут, за углом…
– Ничего не понимаю, – сказал Виктор. – Или у меня с головой что-то… Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?
– Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.
– Очкарик?
Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.
– Н-нет, – ответил Бол-Кунац, подумав. – По-моему, они все были без очков.
– О, господи, – сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. – Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория… Мокрецы…
– Не знаю, – сдержанно произнес Бол-Кунац. – По-моему, они все были вполне здоровы.
– Ну-ну! – сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. – Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном…
– Это никакой не прокаженный! – с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац. – Он поздоровее вас…
Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.
– Я не совсем понимаю, куда мы идем, – помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном. – Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.
Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена… Чепуха, знаю я нынешних уголовников…
Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло – мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях как подпорка для травмированного.
– Должен тебе сказать, – самым доверительным тоном сообщил ему Виктор, – что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.
– Правда? – вежливо спросил Бол-Кунац. – И как же вы говорили?
– Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?
Бол-Кунац пожал плечами.
– Вы хотите сказать, что это было бы лучше?
– Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.
– Именно то, что наиболее естественно, – заметил Бол-Кунац, – менее всего подобает человеку.
Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.
– Естественное всегда примитивно, – продолжал между тем Бол-Кунац. – А человек – существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?
– Да, – сказал Виктор. – Конечно.
Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Четырнадцать, – рассеянно ответил Бол-Кунац.
Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове…
Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей и попадались прохожие – торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент – отец народа», «Легионер Свободы – верный сын Президента», «Армия – наша грозная слава»…
Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.
– А я думал, тебе лет восемьдесят, – сказал Виктор.
– У меня в детстве был приятель, – сказал Виктор, – который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.
– Да, знаю, – сказал Бол-Кунац.
– И ты не боишься?
Они подошли к отелю, и Виктор предложил:
– Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?
– Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?
Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить, и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня… в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги… и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится – драка или сюжет вдруг заиграет… и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане…
Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» – шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым». – «Я тебе покажу разговор с господином Баневым, – шипел швейцар. – Шляешься по ресторанам…» – «У меня разговор с господином Баневым, – повторял Бол-Кунац. – Ресторан меня не интересует». – «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал… Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну…» Виктор взял ключ и обернулся.
– Э… – сказал он. Он опять забыл имя швейцара. – Парнишка со мной, все в порядке.
Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.
Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.
– Раздевайся, – сказал Виктор. – Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.
– Разрешите, я позвоню, – сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.
– Валяй. – Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе», – сказал он и тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.
– Благодарю вас, – сказал он. – Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только…
– Простудишься, – сказал Виктор.
– Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?
Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.
– Ирма мне много чего говорила, – ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.
– Она не передавала вам наше приглашение?
– Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.
– Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.