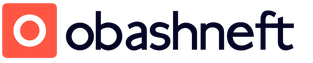Значение слова тынянов в литературной энциклопедии. Ахмедьяров — Тынянов о функционально-динамической природе художественного слова
В.В. Эйдинова
В статье «О Хлебникове» (1928) Ю. Тынянов писал: «Обычно представление, что учитель подготовляет приятие учеников. На самом же деле совершается обратное: Тютчева подготовили для восприятия и приятия Фет и символисты. ...Проходит много лет подземной, спрятанной работы ферментирующего начала, пока на поверхность может оно выйти уже не как «начало», а как явление».
Тыняновское размышление имеет отношение не только к области искусства. Оно выявляет диалектику и научной мысли, сложное взаимодействие разных этапов ее движения. Так, сегодняшний уровень литературоведческой науки, ее теоретическая оснащенность дает возможность осознать значение лучших работ начального периода советского литературоведения, объективно подойти к ним, осваивая все плодотворное и отбрасывая ложные, антиисторические методологические установки.
Связь «Тынянов - современная филология» тоже просматривается в его формуле «учителей - учеников». Переиздание исследований ученого, появление ряда работ, рассматривающих его личность и творчество, говорит о большом и настойчивом интересе к наследию этого «талантливого писателя, тонкого критика, оригинального теоретика литературы, выдающегося литературоведа» (В. Виноградов). Однако работы Тынянова до сих пор не стали объектом специальных исследований, хотя возникла атмосфера общего приятия его трудов, ощущение их актуальности для современной науки.
Среди теоретических проблем, неизменно интересующих Ю. Тынянова, особенно важными для него были проблемы стиля, жанра, стиха, литературной эволюции. В этот ряд можно включить поставленную им и постоянно возникающую на протяжении его научного творчества проблему «литературной личности». Понятие «литературной личности» вводится Тыняновым с целью показать изъяны биографически-психологического подхода к литературе весьма распространенного в филологии рубежа XIX-XX вв. Он иронически пишет о тех «научных» исследованиях литературного творчества где «писательская личность с ее «биографией насморка» совершенно произвольно поднимаете до степени литературы, где выводы о художнической индивидуальности автора строятся преимущественно на основе внетекстовых материалов: дневников, писем, фактов биографии. Так, с Н. Лернером Тынянов полемизировал например, в статье «Мнимый Пушкин», раскрывая методологическую ограниченность биографического подхода к литературе, искажающего истинное представление о художнике.
Для Тынянова литературная личность писателя соотносима с его «биографическ личностью», но отнюдь не равна ей. Грани писательского «я» непрямо, сложно, а подчас конфликтно связаны друг с другом. Диалектику отношений реальной личности поэта и личности, открывающейся в его творчестве, Тынянов раскрывает, анализируя факты биографии и творчества Тютчева. Он показывает, что мистический стиль, свойственный Тютчеву в жизни (так называемая «тютчевиана»), не нашел своего литературного выражения в его поэзии, тяготеющей к высокому стилю. «Легко счесть, замечает Тынянов, - все его искусство «эмоцией его личности» и искать в его биографии биографию знаменитого острослова, тон мыслителя, разгадки всей его лирики, но здесь то и встречают нас знаменитые формулы «тайна Тютчева» и «великий незнакомец». Таким же, впрочем, «великим незнакомцем» будет любая личность, поставленная во главу угла при разрешении вопроса об искусстве»).
Однако понятие «литературная личность» используется Тыняновым главным образом для выявления специфики художественного освоения мира - не случайно он резко протестует против подмены проблемы «литературной индивидуальности» проблемой «индивидуальность литератора»: «Вместо литературы предлагается изучать личность творца. Это то же, что при выяснении происхождения и значения русской революции говорить о том, что она произошла вследствие личных особенностей вождей боровшихся, стран». Об этой подмене, в результате которой исчезает самая сущность искусства, литературы, Тынянов говорит неоднократно, стремясь выявить специфику художественного постижения мира. Она - в преобразовательной, творческой функции искусства (его «сверхличности»): ведь искусство не просто воссоздает, но пересоздает, «перегруппировывает мир», в том числе и мир (личность, биографию) самого художника. В разграничении личности реальной и литературной как раз и акцентируются исследователем непрямые отношения между жизнью и творчеством, между действительностью и ее эстетическим преобразованием.
Отсюда - утверждение диалектической связи и несвязи, совпадения и несовпадения облика человека и художника, развертываемое Тыняновым. «Биография Хлебникова, - пишет он, - ... сложного, иронического, «нелюдимого» и общительного связана с его поэтическим лицом», но «как бы ни была поразительна жизнь странствователя и поэта, как бы ни была страшна его смерть, биография не должна давить его поэзию». Или: «Блока мало кто знал. Как человек, он остался загадкой для широкого литературного Петрограда, не говоря уже о всей России. Но во всей России знают Блока как человека, твердо верят определенности его образа...»
«Литературная личность» («стиховая», «стилистическая», «поэтическая», «лирическая») складывается в самом творчестве художника, в созданных им произведениях. Степень отхода от «живой» личности творца, как показывает Тынянов, может быть различной. Так, для подчеркнуто эмоциональной поэзии (Есенин, Блок) характерен закон «персонификации, оличения», т. е. особой активности биографического «я» писателя, которое становится специфическим для него литературным приемом: «Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотиться и приводят к человеческому лицу за нею». Однако даже особая обнаженность биографии художника в его творчестве не создает тождества между его «живым» лицом и искусством. И хотя «Блок - самая большая лирическая тема Блока», в его поэзии, как подчеркивает Тынянов, необходимо видеть «не лицо, а искусство». И чем своеобразнее, самобытнее этот поэтический мир, тем отчетливей и определенней открывается читателю его создатель.
Понятие «литературной личности» смыкается в работах Тынянова с понятием индивидуального стиля художника («стиль Крылова», «пушкинский стиль», «грандиозный державинский стиль», «черты некрасовского стиля в лирике Катенина», «площадной стиль» Маяковского и т. д.), причем яркая оригинальность стиля является для него показателем значительности, «крупности» творческой индивидуальности. В подлинной поэзии, замечает Тынянов, «общего лица, общего человека вообще не существует»: талантливый художник всегда владеет личным, особенным стилем.
Стиль организует поэтику и реализует себя в ней, в совокупности компонентов словесной художественной формы произведения (речь, персонаж, сюжет, жанр), которая и предстает материальным бытием «литературной личности». Подобный акцент на форме, «овеществляющей» индивидуальность творца, звучит в каждой работе Тынянова, начиная с его первых статей, таких, как «Достоевский и Гоголь» (1921), где он еще разделяет формалистическую концепцию имманентного бытия искусства и не выходит за пределы собственно «литературного ряда», и кончая статьями «Стихотворные формы Некрасова», «Пушкин», «О литературной эволюции» (1927), «Проблемы изучения литературы и языка», «О Хлебникове» (1928), «О пародии» (1929), где литература начинает рассматриваться им исторически: как «ряд, система, соотнесенная с другими рядами, системами», в частности с рядом социальным.
Трактуя форму как воплощение индивидуальности художника, Ю. Тынянов предвосхищает тем самым современное понимание стиля как «специфической», «личной формы». В статье «Архаисты и Пушкин» он показывает особенности художественного облика поэтов, например речевую односторонность Катенина (тенденция «нагой простоты») и универсальность Пушкина, гармонически сочетающего в поэтическом языке разные явления: карамзинское «точное, адекватное слово» и слово «просторечное, архаистическое».
Определяя творческую индивидуальность ряда советских поэтов 20-х годов, Тынянов тоже идет по пути рассмотрения поэтики, которая воплощает стилевую закономерность, характерную для художника: он обнаруживает «необычайно живучую стиховую эмоцию» у Есенина, «особую культуру выдвинутого метрически слова» в поэзии Ахматовой; грандиозный строй стиха Маяковского; «смешанные между собой звуками образы» у Пастернака.
Особенно важно то, что отдельные элементы поэтики того или другого художника рассматриваются Тыняновым не изолированно друг от друга, а в связях, во взаимоотношениях. Причем, как оказывается в ходе исследования, это единство поэтической формы достигается благодаря действию ведущего творческого принципа, собирающего элементы поэтики в художественную целостность. В практических разборах текстов формируются тыняновские идеи системности и функциональности, не отделимые от его концепции «литературной личности» и ее стилевого воплощения. Поэтика в его толковании предстает системой («конструкцией»), где тот или иной составляющий ее компонент функционален, ибо он «управляется» характерным для художника конструктивным принципом - доминантой формы.
Понятия «конструкция» и «конструктивный принцип» Тынянов употребляет и при характеристике жанра. Только там они несут в себе значение устойчивости, повторяемости признаков. При характеристике же стиля художника определения «конструкция» и «принцип конструкции» (иногда «метод», «способ», «закон») употребляются с целью выделения специфического, особенного: «принципы поэтического творчества Катенина»; «писательские методы Пушкина»; «закон творчества Гоголя», «его способ выражения».
Доминирующий пушкинский принцип, по Тынянову, - это «противоречивая спайка высокого и низкого, стилистически приравненных, доставляющих материал для колебания двух планов». В этом «энергетическом... переключении из плана в план», которое обнаруживает себя и в ассоциативном «колебании слова между двумя и многими значениями», и в смене планов героев, и в сюжетном изменении фабульного и вне фабульного рядов, сказывается особая широта, безграничность («бездна пространства» - Гоголь), универсальность пушкинского стиля, способного объять самые разные сферы действительности - психологии, быта, истории.
А вот как определяется Тыняновым конструктивный принцип, выстраивающий творчество Гоголя, и в сравнении с ним - Достоевского. Для обоих художников характерна своеобразная стилевая сосредоточенность, возведение одного, ведущего поэтического приема в закономерность формы. «Основной прием Гоголя в живописании людей, - пишет Тынянов, - прием маски» (вещной, словесной, их проекций друг на друга). И далее: «Закон творчества Гоголя... - смена масок», цель которых - создание отчетливо обозначенных типов. Стиль же Достоевского, наследуя особенности стиля Гоголя, одновременно полемизирует с ним, как со Стилем, подчеркнуто заостренным, направленным на отображение «одномотивных», резко определенных характеров, «не испытывающих никаких переломов или развитий». Гоголевский художественный закон переосмысляется Достоевским, получает новую функцию - отображения нюансов психологии личности, «отыскивания интересных и поучительных оттенков даже между ординарностями».
Качественные определения стилевых принципов ряда художников даны в статье «Промежуток», посвященной советской поэзии 20-х годов. Эстетическим принципом, организующим творчество А. Ахматовой, оказываются, по Тынянову, «небольшие эмоции» (отсюда - «шепотный синтаксис», «неожиданность обычного словаря»); «крайность связываемых планов - высокого и близкого, ... сопряжение далековатых идей» - художественный закон поэзии Маяковского, формирующий его «митинговый, криковой стих». И далее: «Самый гиперболический образ Маяковского, где связан напряженный до патетики высокий план с улицей, - сам Маяковский». А творческая индивидуальность Пастернака выявляет себя в принципе теснейшей связанности слова и мира, «в жажде примирить слово и вещь», «перепутать братски» («слово смешалось с ливнем»).
В работах Тынянова выявляется и смысловая направленность стиля. «Стилевая жизнь» художника в трактовке Тынянова - это выражение его «зрения», его взгляда на мир. Он пишет о том, как писатель «видит вещи»; о «стиле, дающей смысловую атмосферу вещи»; о том, что «всякое стилистическое средство является в то же время и смысловым фактором» и т. д.
В свойственном Хлебникову соединении «языческого» и «детского» начал Тынянов обнаруживает качество «художественного зрения современного поэта». Хлебников - это «взгляд в процесс и протекание - вровень … для него нет «низких вещей» … в методах Хлебникова - мораль нового поэта. Это мораль внимания и небоязни, внимания к «случайному» (а на деле - характерному и настоящему), подавленному риторикой и слепой привычкой...». А действенное, преобразовательное отношение к жизни, которым отмечена поэтическая личность Маяковского, живет, как пишет Тынянов, «в самом строе его поэзии, в его строках, которые были единицами скорее мускульной воли, чем речи, и к воле обращались».
Таким образом, понятию «литературная личность» у Тынянова сопутствует обычно такой словесный ряд, как «смысл», «позиция», «зрение», «видение», «намерение», что говорит о его подходе к данной категории как к содержательной, оценочной. Правда, эта смысловая особенность творческого лица художника раскрывается исследователем более бегло, чем ее воплощение в словесной форме, ибо способ выражения авторской индивидуальности оказывается для Тынянова всегда основным предметом анализа. Некоторая отвлеченность в определении видения художника, которая несет на себе следы формалистического подхода к искусству, не может быть принята сегодняшней наукой, однако путь, намеченный Тыняновым, позволяет проникнуть в специфику именно эстетического - воплощенного в стиле содержания.
Проблема «литературной личности» изучается Тыняновым в связи с проблемой литературной эволюции. «Войти» в творчество художника, проникнуть в его мир можно, как считает исследователь, лишь учитывая широкий контекст и его собственного творчества, и литературной эпохи в целом. «Обособляя литературное произведение или автора, - пишет Тынянов в статье «Литературный факт», - мы не пробьемся и к авторской индивидуальности. Авторская индивидуальность не есть статическая система; литературная личность динамична, как литературная эпоха, с которой и в которой она движется. Она не нечто подобное замкнутому пространству, в котором налицо то-то, она скорее ломаная линия, которую изламывает и направляет литературная эпоха».
Отсюда - интерес Тынянова не только к сложившимся стилям, взятым в их завершенном, законченном виде, но и к стилевому развитию, выражающему движение индивидуальности художника. Так, например, Тынянов прослеживает эволюцию форм пушкинского «авторского лица», которая проявляется или «в новом использовании старых приемов», или - «в смене конструктивного принципа». Пушкин, по его наблюдениям, движется от стилизованного автора в лицейской лирике - к «поэту с адресом» («потомок негров безобразный»); к конкретному автору в лирике 20-х годов; далее - к многоликому автору («то эпический рассказчик, то иронический болтун» - в «Руслане и Людмиле»; к автору-эпику в «Цыганах»; к многомотивному лирическому автору в «Евгении Онегине»; наконец - «к нейтральному автору», зачастую разделенному на два лица, - в прозе.
Рассмотрение творчества Пушкина, Катенина, Кюхельбекера, Грибоедова, Гоголя, Достоевского, Блока, Брюсова дает ученому материал для определения диалектики развития писательской индивидуальности: путь художника предстает как сложное, непрямое движение, и каждый новый отрезок его формируется на фоне предыдущего, как его продолжение и опровержение одновременно.
Мысль о творческом фоне, в связи с которым происходит эволюция художника, чрезвычайно характерна для Тынянова, утверждающего постоянство и непрерывность литературного развития. Появление нового значительного таланта в его толковании предстает как литературный факт, подготовленный множеством явлений предшествующего (ближнего и дальнего) и параллельного ему движения литературы. Так, в статье «Тютчев и Гейне» показано, как сложно взаимодействовали между собой творческие миры двух больших поэтов. При разработке характерной для Гейне наполеоновской темы, Тютчев ведет не его прозаически-сниженную, а «витийственную» линию стиха. «Традицию Тютчева в теме Наполеона, - говорит исследователь, - мы найдем не здесь, а у Державина».
Значительность той или иной авторской индивидуальности для Тынянова заключается в ее способности услышать потребности времени и ответить на них обновлением традиции. Так, «внося прозу в поэзию, Некрасов обогащал ее», сообразуясь с задачами литературы времени. Он «создал новую форму колоссального значения, далеко еще не реализованную и в наши дни». Коренные, этапные изменения в литературном развитии Тынянов связывает обычно с деятельностью подлинно талантливых художников, отчетливо выраженный стиль которых оказывается толчком для дальнейшего движения литературы. В то же время он раскрывает всю сложность и многосторонность взаимодействия «малых» и «больших» эстетических явлений в разные периоды развития литературы.
Это значит, что при всей важности крупных индивидуальностей в формировании стилей эпохи существенна также роль художников иного, меньшего масштаба. «Литература идет многими путями одновременно, - говорил Тынянов, - и одновременно завязываются многие узлы». Работа «Архаисты и Пушкин» убедительно показывает большую роль Катенина и Кюхельбекера для архаистического, простонародного стиля, развивающегося наряду со стилем карамзинизма, хотя их индивидуальности, в сравнении, например, с Крыловым, были менее яркими. Не случайно ценность творчества того или иного художника Тынянов измеряет в первую очередь его соотнесенностью с процессом развития искусства. Он говорит об относительном и подвижном значении литературных явлений, настаивая на оценке каждого из них с точки зрения роста литературы. «Историко-литературное изучение, - утверждает Тынянов, - вполне считаясь с ценностью явлений, должно порвать с фетишизмом. Ценность Пушкина вовсе не исключительна, и как раз литературная борьба нашего времени воскрешает и другие великие ценности (Державин)».
Литературная эволюция предстает в изображении Тынянова во всей своей сложности и потому, что она рассматривается как взаимодействие творческих связей разной направленности: и по горизонтали (Пушкин - Катенин - Кюхельбекер; Маяковский - Хлебников; Асеев - Тихонов); и по вертикали, от эпохи - к эпохе (Гоголь - Достоевский; Катенин - Некрасов; Державин - Маяковский). Исследователь соотносит художников одной эпохи, выявляет их контакты, осознанные и неосознанные, проявляет стиль одного сквозь стиль другого. Пушкин в его изложении, «учась у Катенина, никогда не теряет самостоятельности… в 1820 году... он осуждает Катенина за то, что Катенин стоит на... старом пласте литературной культуры».
Стилевая преемственность в понимании Тынянова - это «не линейная преемственность»; она сложна, диалектична, включает в себя связи и полемику. «Нет продолжения прямой линии, есть отправление, отталкивание от известной точки - борьба». Сам принцип литературного движения Тынянов определяет как «борьбу и смену», борьбу, понятую как согласие и спор одновременно. Примером такой непрямой преемственности в сфере стиля у Тынянова выступают, например, линии «Маяковский - Державин», «Хлебников - Ломоносов». Причем продолжение традиции оказывается здесь особенно сложным: происходит, по словам Тынянова, «борьба с отцом, в которой внук оказывается похожим на деда».
Убедительной и ценной для современной теории «литературной личности» представляется нам у Тынянова мысль о преддверии, «постепенном накоплении» крупного индивидуального стиля, давшего толчок целому стилевому течению (явление «предстиля»). В этой связи он говорит об отношении «Катенин - Некрасов», «Веневитинов - Лермонтов» и выясняет важный закон литературной эволюции: стилевое движение, представляющее этап ее, осуществляется как в периоды «промежутков», своеобразных пауз, так и в периоды скачков, резких литературных изменений, активного формирования новых индивидуальностей. Доказательство этого положения развертывается Тыняновым и в конкретных исследованиях («Пушкин и Тютчев», «Пушкин», «Литературное сегодня», «Блок», «Валерий Брюсов»), и в общетеоретическом плане («Проблема стихотворного языка», «О литературной эволюции», «Промежуток», «Проблемы изучения литературы и языка»). Причем утверждается, что в художественном процессе важны оба периода: и тот и другой обусловливают поступательное движение литературы («... промежуток... кажется нам тупиком... У истории же тупиков не бывает»).
Значение литературных индивидуальностей для творческого процесса проявляется не только в стилевом, но и в жанровом движении литературы. По мысли исследователя, литературная эволюция совершается посредством прямого и обратного взаимодействия стилей и жанров (двуединая, жанрово-стилевая активность литературы). Талантливый художник, отвечая на запросы эпохи и формируясь как индивидуальность, созидающая свой стиль, с одной стороны, ориентируется на те или иные органичные для него жанры, (интимно-патетическая поэзия Ахматовой, требующая жанра «стихотворных рассказов»); с другой стороны, его творчество влияет на жанровые изменения в литературе (особый «жанровый поворот» баллады Асеева). «Разные стиховые стихии», разные стили сгущаются в жанры, смещая, обновляя их.
Разрабатывая при включении понятия «литературная личность» художественный процесс, Тынянов (особенно во второй половине 20-х годов) утверждает необходимость соотнесения литературного движения с движением социально-историческим. «... Я - детерминист, - говорит он о себе. Я чувствую, что жизнь переплескивается через меня. Я чувствую, как меня делает история». Наиболее отчетливо принцип детерминизма формулируется Тыняновым в статьях «О литературной эволюции» и «Проблемы изучения литературы и языка», где, например, говорится: «Вскрытие имманентных законов истории литературы... позволяет дать характеристику каждой конкретной смены литературных... систем, но не дает возможности объяснить темп эволюции и выбор пути эволюции... Вопрос о конкретном выборе пути... может быть решен только путем анализа соотнесенности литературного ряда с прочими историческими рядами».
Исторический принцип, отчетливо высказанный в зрелых теоретических работах Тынянова, недостаточно полно проявляется в ряде его конкретных исследований, в частности и в решении проблемы «литературной личности». Отголосок имманентной трактовки творчества писателя, характерной для формалистической школы, сказывается в таких работах ученого, как «Достоевский и Гоголь», «Тютчев и Гейне», где анализ индивидуальной поэтической формы, свойственной автору, оказывается отделенным от социально-исторического облика эпохи. Как справедливо пишет В. Каверин, «идеологические и социальные факторы, воздействующие на искусство, недостаточно учитывались Тыняновым в конкретном анализе» творчества художника.
Учитывая эти тенденции некоторой эстетической замкнутости в рассмотрении Тыняновым творчества отдельных авторов, нельзя в то же время не видеть тот крупный научный вклад, который внес ученый в развитие целого ряда важных для литературы проблем, в том числе проблемы «литературной личности». Наследие Тынянова не просто предвосхищает многие из идей современного литературоведения: оно ждет еще своего дальнейшего изучения и освоения, которое, несомненно, откроёт новые повороты и в исследовании литературы, и в развитии филологии.
Ключевые слова: Юрий Тынянов, ОПОЯЗ, литературные портреты, критика на творчество Юрия Тынянова, критика на произведения Юрия Тынянова, анализ произведений Юрия Тынянова, скачать критику, скачать анализ, скачать бесплатно, русская литература 20 в.
Нужна упорная работа мысли, вера в нее, научная по материалу работа - пусть даже неприемлемая для науки, - чтобы возникали в литературе новые явления.
Ю. Тынянов
Говорить о творческом пути писателя-современника - это не совсем то, что говорить о писателе прошлых времен. Дело не в том, легче или труднее (в некоторых отношениях, пожалуй, труднее), а в том, что это по самому существу несколько иная задача: речь идет о нерешенных проблемах, о явлении, находящемся в движении, - о своей эпохе, о своем поколении. Настоящей исторической перспективы еще нет - и нельзя поэтому «пророчествовать назад», как это делает любой историк 1 .
Иные критики любят делать вид, что они не нуждаются ни в какой перспективе, что им-то все понятно, что ничего сложного, неожиданного или удивительного в современной литературе для них нет, что у них просто руки не доходят, а то бы они сами написали всю современную литературу в лучшем виде. Писатели не уважают критиков - и они правы.
Каждый настоящий писатель (как и ученый) открывает что-то новое, неизвестное - и это важнее всего, потому что свидетельствует о новых методах мышления. И критик должен замечать это и удивляться, а не делать вид, что он все это давно предвидел и угадал или что ничего особенного в этом нет и что это, в сущности, даже не очень хорошо, потому что надо было сделать не так, а этак.
Тынянова много и сильно хвалили; однако иная похвала хуже брани. Хвалить - это дело начальства и
1 Это неточная цитата из поэмы Б. Пастернака «Высокая болезнь»: «Однажды Гегель ненароком... Назвал историю пророком, Предсказывающим назад» (первоначальный текст; см. В. Пастернак, Стихотворения и поэмы, М, - Л. 1965, стр. 654. - Ред.).
педагогов. Критик - не оракул, не начальник и не педагог. Настоящее творчество - дело, которому человек отдает все свои силы. Об этом надо говорить не в педагогических и не в начальственных терминах, а в терминах, соразмерных смыслу самого дела.
Творчество Тынянова отличается некоторыми особенностями, выделяющими его среди других писателей и имеющими принципиально важное значение. Он не только писатель-беллетрист, но и историк литературы; не только историк литературы, но и теоретик - автор ряда замечательных работ о стихе, о жанрах, о проблемах литературной эволюции и пр. Эти области творчества не просто сосуществуют у него, а взаимно питают и поддерживают друг друга. В таком виде это явление новое и, очевидно, не случайное.
Литературоведческие работы Тынянова никак не могут быть отнесены к числу простых «этюдов» или программно-теоретических деклараций; это подлинные научные работы, заново осветившие многие факты и оказавшие сильнейшее влияние на литературоведение. Теория литературы и стиха не может пройти мимо его замечательной книги - «Проблема стихотворного языка», а история русской литературы - мимо его работы «Архаисты и Пушкин». Можно с уверенностью сказать, что этим работам предстоит еще большое будущее. С другой стороны, литературоведческие работы Тынянова органически связаны с его беллетристикой или беллетристика с этими работами, - как по линии тем и исторического материала (Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин), так и по линии стилевых проблем, проблем художественного метода. Его художественный стиль и метод - своего рода практическая проверка теоретических наблюдений, изысканий и выводов. Иногда это даже прямое экспериментирование, порожденное не только художественным замыслом, но и теоретической проблематикой.
В этом смысле романы Тынянова могут быть названы научными, нарушающими распространенное представление о несовместимости теоретической мысли с художественной работой и имеющими поэтому несколько демонстративный характер. Возникает вопрос: не является ли такое сочетание теории с практикой более нормальным,
чем обычное их разделение? Кому же и быть подлинным, авторитетным литературным теоретиком, как не писателю? И с другой стороны, кому же и быть писателем как не человеку, самостоятельно продумавшему теоретические проблемы литературы?
Эта особенность Тынянова тем более значительна и знаменательна, что она порождена, конечно, вовсе не только случайными индивидуальными свойствами, но и свойствами нашей эпохи. Наша эпоха, по исторической своей природе, синтетична - хотя бы в том смысле, что она ставит заново все вопросы человеческого бытия и общежития. Является тяга к сочетанию и сближению разных методов мышления и разных речевых средств для понимания одних и тех же фактов жизни. Наука и искусство оказываются при этом не столько разными (и несоединимыми) типами мышления, сколько разными языковыми строями, разными системами речи и выражения. Если одни эпохи их разъединяют, то другие могут и должны их сближать и соединять.
Характерно, что Тынянов именно с этой стороны подходит к творчеству Хлебникова: «Нужна упорная работа мысли, вера в нее, научная по материалу работа - пусть даже неприемлемая для науки, чтобы возникали в литературе новые явления. Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность, то оказывается в искусстве резервуаром его энергии. Хлебников потому и мог произвести революцию в литературе, что строй его не был замкнут литературным, что он осмыслял им и язык стиха и язык чисел, случайные уличные разговоры и события мировой истории... Поэзия близка к науке по методам - этому учит Хлебников» 1 .
Если это так, то можно и следует пойти дальше - усилить работу мысли и веру в нее; добиться того, чтобы работа была научной не только по материалу, но и по методу, и чтобы она тем самым стала приемлемой для пауки, основательной и убедительной, не теряя при этом органической связи с методом искусства.
1 Ю. Тынянов, Архаисты и новаторы, изд-во «Прибой», Л. 1929, стр. 591 - 592. Курсив мой. - Б. Э. В дальнейшем при ссылках на эту книгу страница указывается в тексте.
Так Тынянов и поступает: то, чего он добивается методом научного мышления, становится «резервуаром» для художественной энергии. Рядом с историческим процессом формирования литературы (а тем самым и человеческой жизни вообще) неизбежно возникают проблемы личной судьбы и поведения человека и истории - проблемы сочетания свободы и необходимости. Литературовед учитывает эту область только в той мере, в какой она может быть предметом научных обобщений и в какой она может быть выражена в научно-исторических терминах; все остальное оказывается «домашним» материалом или балластом, который остается за пределами исследования - или потому, что не приводит к обобщениям, или потому, что не подтверждается фактами и документами. Тут-то и начинается художественное творчество Тынянова - там, где кончается область исследования, но не кончается сам предмет, сама проблема. Вот в этом-то смысле и можно говорить, что романы Тынянова научны - что это своего рода художественные диссертации, содержащие в себе не только простую зарисовку эпохи и людей, но и открытия неизвестных сторон и черт в самом поведении человека, в самой его психологии.
Совершенно неверно было бы думать, что Тынянов по каким-то причинам перешел от литературоведения (с которого он действительно начал) к исторической беллетристике. Это неверно фактически, поскольку он никогда не прекращал и не прекращает литературоведческой работы - и притом в пределах того же материала: Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин. Замечательно, что новые исследования о Кюхельбекере появляются уже после «Кюхли»; 1 не менее характерно, что статья о «Безыменной любви» Пушкина 2 появилась в процессе работы над романом о нем: научное открытие (пусть спорное) оказалось результатом художественной разработки, применения художественного метода. Тынянов мог бы, в сущности, и не писать этой статьи (как он поступал со многими своими догадками и гипотезами в других случаях), а просто ввести эту догадку в роман; статья по-
1 Пушкин и Кюхельбекер. - «Литературное наследство», т. 16 - 18, М. 1934; Французские отношения В. К. Кюхельбекера. - «Литературное наследство», т. 33 - 34, М, 1939.
2 «Литературный критик», 1939, № 5 - 6.
явилась, очевидно, потому, что в этом случае оказалось возможным придать догадке научную убедительность - найти аргументацию. Важен не факт появления статьи сам по себе, а то, что метод науки и метод искусства рождаются из одного источника и могут взаимодействовать.
Если романы Тынянова в этом смысле научны, то его литературоведческие работы скрывают в себе несомненные черты художественного зрения, необычные для традиционного литературоведения и обнаруживающие заинтересованность беллетриста, писателя. Его анализ и даже постановка некоторых вопросов часто подсказаны не только научной проблематикой, но и художественными потребностями; его теоретические и историко-литературные наблюдения и выводы содержат иногда прямые намеки на очередные художественные проблемы стиля, стиха, жанра.
Это сказывается уже в первой статье Тынянова - «Достоевский и Гоголь» (1921 г.). Литературоведческая проблема этой статьи - вопрос о «традиции» и «преемственности». Тынянов доказывает, что «всякая литературная преемственность есть прежде всего борьба, разрушение старого целого и новая стройка старых элементов» (413), что Достоевский не столько учится у Гоголя, сколько отталкивается от него. Уже этот тезис порожден, конечно, не только «академическими» интересами, но и борьбой тогдашних литературных направлений. Статья, однако, не ограничивается этим: возникает вопрос о стилизации и пародии, причем пародия приобретает очень важный и принципиальный смысл художественного смещения старой системы. В статье о Некрасове того же времени («Стиховые формы Некрасова») пародии уделяется тоже очень много внимания - как методу борьбы и преодоления старой формы. Совершенно несомненно, что такой интерес к пародии возник у Тынянова в связи с тогдашней борьбой литературных партий - в, связи с походом футуризма против символизма. Но и этим не исчерпывается содержание статьи о Достоевском.
Речь заходит о «масках» у Гоголя и Достоевского. Тынянов обращает внимание на то, что, отказываясь от изображения «типов», Достоевский пользуется словесными и вещными масками, создавая конкретные характеры. Мало того: он настойчиво вводит литературу в свои произведения, обнажая этим литературно-теоретические
пружины своих замыслов. Материалом для Фомы Опискина в «Селе Сепанчикове» послужила, оказывается, личность Гоголя, Тынянов внимательно прослеживает, как Достоевский пользуется языком Гоголя и как шаржирует присущие ему черты, рисуя пародийный портрет. «Село Степанчиково» оказывается своего рода биографическим романом, герой которого - Гоголь. И это не единственный случай у Достоевского: «В «Бесах» материалом для пародийных характеров послужили Грановский и Тургенев; в «Житии великого грешника» к сидящему в монастыре Чаадаеву должны были приезжать Белинский, Грановский, Пушкин... И мы не можем поручиться, не было бы пародийной окраски и в рисовке Пушкина» (437). Правда, Достоевский оговаривается: «Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип» 1 . Но Тынянов как будто готов задать вопрос: а почему бы не описать прямо Чаадаева или Пушкина? И кажется, что помимо всего другого, Достоевский изучается со специальной целью - как тонкий мастер индивидуальных масок, как художественный стилизатор и пародист.
Я пользуюсь здесь, конечно, до некоторой степени, методом «пророчества назад»; но мне важно указать на своеобразное и необычное для литературоведения того времени сочетание общих историко-литературных проблем (проблема «преемственности») с конкретнейшими наблюдениями, выходящими за пределы этих проблем и возникающими в иной связи.
Тынянова явно волнуют не только академические вопросы истории литературы, но и животрепещущие вопросы создания новой литературы. Особый эффект его литературоведческих работ (даже самых академических по темам и выводам, как «Архаисты и Пушкин») заключается в том, что они одновременно говорят и о прошлом и о современном или будущем. С тем большей силой это сказывается на его теоретических работах; в сущности говоря, у него трудно даже провести границу между историко-литературными и теоретическими работами: в большинстве случаев (особенно в работах первого периода) этой границы нет.
1 Письмо к А. Н. Майкову от 25 марта 1870 года, - Ф. М. Достоевский, Письма, т. 2, Госиздат, М, - Л. 1930, стр. 264. Курсив Ю. Н. Тынянова.
В первых статьях Тынянов уделяет очень много места проблеме поэтического языка и стиля, часто вступая в область художественной лингвистики и стилистики. В статье «Ода как ораторский жанр» он добивается установления самых принципов ломоносовского стиля и создания образов. Он приходит к выводу, что поэтический образ создается у Ломоносова «сопряжением далековатых идей» (63) 1 , то есть связью или столкновением слов, далеких по лексическим и предметным рядам. Это не просто теоретический или историко-литературный вывод: это в то же время наблюдение, которое может быть практически использовано. Ломоносов интересует Тынянова, помимо всего, как писатель, соединивший научное и художественное мышление. Отмечая дальнейшее развитие оды у Державина, Тынянов вместе с тем указывает на сильнейшее влияние принципов словесной разработки Ломоносова не только у Державина, но и у Тютчева. Тут же он приводит «поразительный пример словесной разработки» у Державина, сопоставляя ее со словесными конструкциями Хлебникова:
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец, в бессмертие твое.
Тынянов пишет: «Здесь как бы одно слово, расчленившееся на много членов-слов; особой силы достигает этот прием тем, что все эти слова, повторяя одну основу, отличаются друг от друга, что дает ощущение протекания слова, динамизацию его» (76). Это комментарий человека, присматривающегося к природе поэтического слова не только для теоретических или историко-литературных выводов. Пример этот недаром «поразил» Тынянова силой своего художественного воздействия; в романе «Смерть Вазир-Мухтара» (вероятно, давно забыв о собственном комментарии к стихам Державина и развивая конструкции Хлебникова) он написал лирическую главу, пронизав ее цитатой из «Слова о полку Игореве»:
1 Это неточная цитата из «Риторики» М. В. Ломоносова. - Полн. собр. соч., т. 7, изд-во АН СССР, М. - Л. 1952, стр. 111, 116.
«Встала обида в силах Дажьбожа внука». Так теория подготовляет у Тынянова практику.
Основные наблюдения Тынянова над природой поэтического слова сконцентрированы в его замечательной работе «Проблема стихотворного языка» (1924). Огромное принципиальное значение имеет устанавливаемый здесь факт; «Отправляться от слова как единого, нераздельного элемента словесного искусства, относиться -к нему как к «кирпичу, из которого строится здание», не приходится. Этот элемент разложим на гораздо более тонкие „словесные элементы”» 1 . Далее устанавливается функциональное различие стиха от прозы как разных конструктивных систем, а затем делается подробный анализ смысловых оттенков слова в условиях стиха. Об этой книге не было почти никаких отзывов - скорее всего потому, что теоретический уровень ее был несравненно выше обычного. Она оказалась не по плечу тем, кто ведал критикой литературоведческих работ; успокоились на том, что она «формалистична», не заметив, что вся она посвящена проблеме ритма не самой по себе, а в связи с семантикой - с изучением смысловых оттенков стиховой речи.
Эта работа была хорошей стилистической школой для самого Тынянова. Теория основных и второстепенных (колеблющихся) признаков значения, примененная к анализу стиховой речи, не только объяснила многие явления, но и раскрыла перспективы для художественной разработки, для опытов над словом. Переводы из Гейне были своего рода подготовкой к этим опытам. Характерно, что Гейне интересует Тынянова в эту пору именно как поэт «чистого слова»; «Образ у Гейне не строится ни по признаку предметности, ни по признаку эмоциональности, он прежде всего - словесный образ» 2 .
Другая замечательная работа этого времени - «Архаисты и Пушкин». Она направлена против старых историко-литературных схем, искажавших живой процесс литературной борьбы 20-х годов. Архаические течения в русской литературе этого времени получают здесь совершенно новый исторический смысл. Тынянов доказывает,
1 Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка, изд-во «Советский писатель», М. 1965, стр. 61.
2 Ю. Тынянов, Блок и Гейне. - В сб. «Об Александре Блоке», изд-во «Картонный домик», М. 1921, стр. 253.
что «архаистическая литературная теория была вовсе не необходимо связана с реакцией александровского времени. Самое обращение к «своенародности» допускало сочетание с двумя диаметрально противоположными общественными струями - официальным шовинизмом александровской эпохи и радикальным «народничеством декабристов» (105). Это был очень важный историко-литературный вывод, позволявший по-новому понять и оценить многое в творчестве Грибоедова и поэтов-декабристов. Заново оживает фигура Катенина, на которого литературоведы до работы Тынянова обращали очень мало внимания, потому что ничего не могли понять в нем. Раскрыта история литературных отношений Катенина и Пушкина: тут Тынянов пользуется уже проверенным на Достоевском методом вскрытия второго плана - и «Старая быль» Катенина оказывается полемическим вызовом Пушкину. Вся эта глава (как это было и в статье о Достоевском), насыщенная конкретным биографическим материалом (цитаты из переписки и комментарии к ним), намекает на возможности психологической, художественной разработки этого конфликта и содержит наблюдения, подсказанные не столько научным, сколько художественным чутьем.
Рядом с фигурой Катенина вырастает фигура Кюхельбекера, вовсе обойденного литературоведами. Шутка Пушкина («И кюхельбекерно и тошно») была принята литературоведами за научную характеристику и дала им право оставить Кюхельбекера вне поля своего зрения. Тынянов сочувственно цитирует отзыв Баратынского о нем: «Человек, вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия» 1 . Кюхельбекеру отводится важное место в истории литературной борьбы 20-х годов; впервые перед читателем проходит картина его отношений с Пушкиным - и тут намечается образ «Кюхли». То в тексте статьи, то в примечаниях мелькают детали и догадки, рисующие облик этого человека. Перед натиском этого материала и этих догадок отступает на второй план историко-литературная проблема позиции Пушкина
1 Письмо к Н. В. Путяте, февраль 1825 года. - Е. А. Баратынский, Полн. собр. соч., т, 2, изд-во М. К. Ремезовой, СПб, 1894, стр. 301.
в отношении к архаистам. Однако смысл статьи от этого не сужается: чувствуется, что, помимо всего прочего, вопрос об «архаистах» интересует Тынянова не только как историко-литературный, связанный с литературной борьбой 20-х годов, но и как теоретический: «архаистическая» линия оказывается соотносительной новаторству и не противоречащей ему. Кюхельбекер был и архаистом, и новатором, а Пушкин, при всем своем новаторстве, был связан с архаистами и многим воспользовался у них. Заглавие вышедшего впоследствии (в 1929 году) сборника статей Тынянова - «Архаисты и новаторы» - подчеркивало внутреннюю связь этих понятий или явлений.
Литературоведческие работы Тынянова 1921 - 1924 годов написаны в несомненном и тесном контакте с образованием новой, послереволюционной литературы - с учетом новых стилистических и жанровых проблем, поисков нового материала, повествовательного тона, героя и пр. Характерная для этого периода «победа» прозы над стихом (обратно тому, что было в эпоху символизма) отразилась в книге «Проблема стихотворного языка», а в работе «Архаисты и Пушкин» есть, конечно, следы споров о классиках и об отношении к традициям. Имеющиеся здесь намеки и аналогии вскрыты в критической статье «Промежуток» (1924), представляющей собой попытку разобраться в современной поэзии. Здесь использован весь опыт теоретических и историко-литературных наблюдений и выводов.
Интересны некоторые обобщения, связывающие положение новой поэзии с эволюцией русской поэзии XVIII века и подтверждающие указанную выше особенность литературоведческих работ Тынянова - их двойную перспективу: в прошлое и в будущее. В статье о своей художественной работе (в сборнике «Как мы пишем», 1930) Тынянов прямо говорит: «Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему» 1 . Это относится и к его научным работам. «Русский футуризм (говорит Тынянов в статье «Промежуток») был отрывом от срединной стиховой культуры XIX века. Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову,
1 Как мы пишем, Изд-во писателей в Ленинграде, 1930, стр. 158.
Маяковский сродни Державину. Геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XIX века» (553). Дальше Тынянов повторяет: «Стиховой культуре XIX века Хлебников противополагает принципы построения, которые во многом близки ломоносовским» (562). Об этом упоминалось, как я указывал, и в книге «Проблема стихотворного языка». Из этой же книги рождаются и характеристики таких поэтов, как Пастернак, Мандельштам.
Любопытно, что о прозе Тынянов говорит в этой статье только вначале - и только для того, чтобы обратиться к вопросу о поэзии. Этот ход мотивирован очень своеобразно. Тынянов признает, что «проза победила»; однако отношения побежденных и победителей совсем не так просты: «Проза живет сейчас огромной силой инерции. С большим трудом, по мелочам, удается преодолевать ее, и это делается все труднее и, по-видимому, бесполезнее... Для поэзии инерция кончилась» (542). Как видно, судьбы поэзии волнуют Тынянова гораздо больше, чем судьбы прозы - и это, конечно, потому, что его теоретическая мысль была все время прикована именно к стиховому слову, а это произошло, помимо всего другого, потому, что его интересует слово не как «кирпич, из которого строится здание», а как нечто «разложимое на гораздо более тонкие элементы». Он работает с микроскопом в руках - и ему нужны словесные препараты, созданные или приготовленные именно, для такой работы.
Я совсем не хочу сказать этим, что Тынянов обходит большие вопросы: его микроскопический анализ тем и замечателен, тем и необычен, что он умеет извлекать из него выводы очень большого значения. Но он не привык и не хочет работать на больших массах - ему важны детали, атомы. Он в этом смысле занимает в литературоведении совершенно особое место - как зачинатель особого отдела науки, чего-то вроде теоретической физики. И именно поэтому его обобщения захватывают самую высокую, самую последнюю область литературоведческих проблем - область таких вопросов, как понятия литературного факта, жанра, литературной эволюции (статьи «Литературный факт», 1924; «О литературной эволюции», 1927).
По статьям 1921 - 1924 годов менее всего можно было ожидать, что Тынянов возьмется за художественную прозу. Он очень редко и как будто неохотно говорит о романе, о сюжете: его любимые писатели не прозаики, а поэты, он переводит Гейне ж изучает атомы стиховой речи, как будто подготовляя собственную поэтическую работу. В статье «Промежуток» он говорит о «победе прозы» с явной иронией, приписывая эту победу действию исторической инерции. В конце статьи Тынянов, отдавая явное предпочтение неудачам новой поэзии перед удачами прозы, говорит: «В период промежутка нам ценны вовсе не «удачи» и не «готовые вещи». Мы не знаем, что нам делать с хорошими вещами, как дети не знают, что им делать со слишком хорошими игрушками» (580).
В статье «Литературный факт» это ироническое отношение к современной прозе до некоторой степени вскрывается; утверждая важную роль конструктивного принципа в литературной эволюции, Тынянов пишет; «Развиваясь, конструктивный принцип ищет приложения. Нужны особые условия, в которых какой-либо конструктивный принцип мог быть приложен на деле, нужны легчайшие условия. Так, например, в наши дни дело обстоит с русским авантюрным романом. Принцип сюжетного романа всплыл по диалектическому противоречию к принципу бессюжетного рассказа и повести; но конструктивный принцип еще не нашел нужного приложения, он еще проводится на иностранном материале, а для того, чтобы слиться с русским материалом, ему нужны какие-то особые условия; это соединение совершается вовсе не так просто; взаимодействие сюжета и стиля налаживается при условиях, в которых весь секрет. И если их нет, явление остается попыткой» (19). Еще одно очень интересное замечание на ту же тему есть в работе «Архаисты и Пушкин»; оно появляется неожиданно и мимоходом, тем самым свидетельствуя о том, что вопрос этот беспокоит Тынянова и возникает у него даже при анализе далеких по времени явлений, никакой преемственностью с современной литературой не связанных. Речь идет о переводах Жуковского и о выпадах против него. Тынянов утверждает: «В неисторическом плане легко, конечно, го-
ворить о том, что «переводы Жуковского - самостоятельные его произведения» и что ценность их не уменьшается от того, что они переводы, но если мы учтем огромное значение жанров для современников, то станет ясно, что привнесение готовых жанров с Запада могло удовлетворить только на известный момент; новые жанры складываются в результате тенденций и стремлений национальной литературы, и привнесение готовых западных жанров не всегда целиком разрешает эволюционную задачу внутри национальных жанров». Это написано с явным учетом современного положения русской прозы, с явным намеком на нее - и намек этот тут же раскрывается при помощи замечания в скобках: «Так, по-видимому, теперь обстоит дело с западным романом. Привнесение готовых жанровых образований с Запада, готовых жанровых сгустков не совпадает с намечающимися в эволюции современной русской литературы жанрами и вызывает отпор» (111 - 112).
Итак, Тынянов выступает решительным противником «инерционного» увлечения западным романом, характерного для русской послереволюционной прозы. Действительно, в эпоху «промежутка» (по выражению Тынянова), когда «проза решительно приказала поэзии очистить помещение» (541), все кинулись читать переводную литературу - американскую, английскую и немецкую прозу. Одно из самых популярных издательств того времени, «Мысль», быстро выпускало наспех переведенные и кое-как сброшюрованные переводы иностранных романов и новелл. Имена Лео Перуца, О. Генри, Конрада, Стефана Цвейга и пр. стали почти русскими, а из русских писателей пользовались некоторым успехом только те, кто в каком-нибудь отношении был похож на западных. Появились даже характерные мистификации - вроде романа «Месс-Менд» 1 . Что касается французской литературы, то она снабжала нас главным образом своими «biographies romancées» (беллетризованными биографиями), которые на время заменили и историю и литературоведение, находившиеся в несколько обморочном состоянии. Поэзия, при всех своих «неудачах», шла независимым от Запада путем, и именно поэтому Тынянов,
1 Имеется в виду роман М. С. Шагинян «Месс-Менд», печатавшийся под псевдонимом «Джим Доллар» (1924 - 1925). - Ред.
несмотря на равнодушие к ней со стороны читателей, демонстративно выступил с ее защитой. О Хлебникове, которого тогда понимали и ценили очень немногие, Тынянов писал в той же статье: «Нам предстоит длительная полоса влияния Хлебникова, длительная спайка его с XIX веком, просачивание его в традиции XIX века, и до Пушкина XX века нам очень далеко (562). В более поздней статье, специально посвященной вопросу о Хлебникове (1928), Тынянов утверждает: «Влияние его поэзии - факт совершившийся. Влияние его ясной прозы - в будущем» (583).
Тут была, несомненно, какая-то доля демонстрации, но независимо от этого одно как будто ясно и важно: Тынянов не потому говорит почти исключительно о поэзии, что не интересуется судьбой прозы вообще, а потому, что он - против «инерции», против легких удач и побед, что он не видит в «победе прозы», какой она была в эпоху «промежутка», настоящего развития, настоящей диалектики, настоящей смены конструктивного принципа. Все это он видит в поэзии. Авантюрный роман, с его точки зрения, никак не решал «эволюционную задачу», стоявшую перед русской прозой, и по разным замечаниям и намекам видно, что он не возлагал никаких особенных надежд на роль сюжета. В статье о литературном факте он очень подробно и почти нравоучительно говорит об образовании прозы Карамзина и карамзинистов путем использования бытовых фактов и жанров. За этим стоит несомненная аналогия с современностью: «В XVIII веке (первая половина) переписка была приблизительно тем, чем она недавно была для нас, - исключительно явлением быта. Письма не вмешивались в литературу... Главенствующей в области литературы была поэзия; в ней, в свою очередь, главенствовали высокие жанры. Не было того выхода, той щели, через которую письмо могло стать литературным фактом. Но вот это течение исчерпывается: интерес к прозе и младшим жанрам вытесняет высокую оду... И из бытового документа письмо поднимается в самый центр литературы... Письмо, бывшее документом, становится литературным фактом» (20 - 22). И здесь же - еще одно замечание, прямо относящееся к современности и лишний раз показывающее, что теоретическая мысль Тынянова никогда не отрывается от живых, современных лите-
ратурных проблем: «Конструктивный принцип, распространяясь на все более широкие области, стремится, наконец, прорваться сквозь грань специфически-литературного, «подержанного», и, наконец, падает на быт... И этот конструктивный принцип падает в наши дни на быт... Газеты и журналы существуют много лет, но они существуют как факт быта. В наши же дни обострен интерес к газете, журналу, альманаху как к своеобразному литературному произведению, как конструкции. Во время напряжения и роста в ширину таких фактов, как «кусковая композиция» в повести и романе, строящая сюжет на намеренно несвязанных отрезках, этот принцип конструкции естественно переходит на соседние, а потом и далекие явления» (25 - 26).
Оставим в стороне вопрос о правильности самого наблюдения, связывающего будущее русской прозы с обострением интереса к газете и журналу; важно то, что Тынянов считает необходимым новое обращение литературы к быту, а признаки нового жанра видит в «кусковой композиции».
Наконец - последнее замечание, касающееся прозы вообще и подготовляющее к пониманию прозы Тынянова. В статье «О литературной эволюции» он говорит о соотнесенности литературных явлений и о том, что рассмотрение их вне соотнесенности невозможно: «Таков, например, вопрос о прозе и поэзии. Мы молчаливо считаем метрическую прозу - прозой и неметрический верлибр (свободный стих) - стихом, не отдавая себе отчета в том, что в иной литературной системе мы были бы поставлены в затруднительное положение. Дело в том, что проза и поэзия соотносятся между собою, есть взаимная функция прозы и стиха... Функция стиха в определенной литературной системе выполнялась формальным элементом метра. Но проза дифференцируется, эволюционирует, одновременно эволюционирует и стих... Возникает метрическая проза (например, Андрей Белый). Это связано с перенесением стиховой функции в стихе с метра на другие признаки, частью вторичные, результативные: на ритм, как знак стиховых единиц, особый синтаксис, особую лексику и т. д. Дальнейшая эволюция форм может либо на протяжении веков закрепить функцию стиха к прозе, перенести ее на целый ряд других признаков, либо нарушить ее, сделать несущественной…
может настать период, когда несущественно будет в произведении, написано ли оно стихом или прозой» (38 - 39. Курсив мой. - Б. Э.).
Итак: 1) новая русская проза, должна отказаться от «инерционного» следования западным образцам, от форм авантюрного и сюжетного романа, пойти по линии «кусковой композиции» (отрезками, эпизодами), обратиться к материалам быта; 2) в стилистическом отношении проза должна осознать свою соотнесенность со стихом («взаимную функцию прозы и стиха»), и, может быть, закрепить за собою некоторые особенности стиховой речи. Таковы требования, предъявляемые Тыняновым к прозе, - не к той, которая «победила» поэзию (это победа инерции - и только), а к той, которая победит инерцию и выдвинет новый конструктивный принцип. Эти требования настолько принципиальны и так обоснованы историко-литературными и теоретическими наблюдениями, что переход от них к практическим опытам кажется уже не только естественным, но и неизбежным.
Однако такой переход все же не обязателен: литературовед может ограничиться предъявлением требований; если его не слушают, тем хуже для современности! А что, если он ошибается - и продолжающаяся инерция опровергает самым фактом своей победы все его теории и выводы?
Тынянов оказался в трудном, крайне ответственном положении человека, которого вызывают на состязание с тем, чтобы он сам доказал на деле пригодность изобретенного им оружия. И действительно: если изобретение жизненно, если оно может иметь реальное значение, его нельзя оставлять в виде чертежа на бумаге.
Дело началось скромным опытом - проверкой изобретения почти на дому. За работой «Архаисты и Пушкин» должна была последовать историко-литературная книга о Кюхельбекере. Такова была естественная логика литературоведческих изысканий. Кюхельбекер заслуживал монографии, но какой и для кого? Он не из тех поэтов, о значении которых можно говорить уверенно и спокойно, не боясь упреков в преувеличении, или в искажении исторической перспективы, или, наконец, в эпатировании. Его нужно открыть, дать почувствовать, приучить к самому факту его существования не только в качестве смешного лицеиста, оказавшегося потом поче-
му-то среди декабристов, но в качестве замечательного человека, «рожденного для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия». Написать книгу по традиционному типу - «жизнь и творчество»? Эта задача была не для Тынянова. Как применить к такой книге микроскопический анализ, как говорить об атомах исторического процесса и поэтического языка, как развернуть обобщения? К тому же литературоведение переживало тогда состояние кризиса, при котором менее всего можно было переносить в него методы теоретической физики. Шли споры о самых грубых, простых вещах: проблема процесса подменялась проблемой генезиса.
Были, наверное, еще многие обстоятельства и причины, (как это всегда бывает в истории), приведшие к тому, что вместо научной монографии о Кюхельбекере был написан роман («повесть о декабристе») - «Кюхля». И (как это тоже обычно бывает в истории) вышло так, как будто это получилось случайно: приближалась столетняя годовщина декабрьского восстания, была потребность в книге для юношества - обратились к Тынянову.
Тынянов начал писать «Кюхлю», вероятно, не сознавая, что он выходит на состязание, что он вступает в борьбу с инерцией, о которой сам писал. Не сознавал он, может быть, и того, что начатый им роман, как исторический, позволит ему до некоторой степени сделать быт литературным фактом и развернуть «кусковую композицию», обходясь без развития фабулы, без «подержанного» авантюрного жанра. Тем менее, надо полагать, думал он о том, что «Кюхля» будет началом большой художественной работы. Именно в этом смысле я сказал, что «Кюхля» был проверкой изобретения почти на дому - без претензий на публичное, ответственное состязание. Литературовед, пишущий «повесть о декабристе» для юношества в связи со столетней годовщиной восстания, - это не демонстрация, не состязание, не борьба с инерцией, не вмешательство в дела современной прозы; это скорее всего работа на досуге, подсказанная общим интересом к биографиям, к историческому прошлому.
На деле вышло, однако, нечто иное и для самого Тынянова, как будто неожиданное (это тоже бывает и должно быть в истории - и именно потому, что человек, осуществляя историческое дело, сам не сознает этого). Книга стала писаться не как повесть для юношества, а
как новая проза - с демонстрацией, с борьбой, с опытами нового стиля и поисками нового жанра.
Вначале все шло просто - как в обыкновенных биографических повестях для юношества: «Вилли кончил с отличием пансион» - эта начальная фраза не предвещала ничего нового, принципиального, направленного против инерционных побед прозы над поэзией. Обращает внимание только особый лаконизм повествования и наличие некоторых деталей, выходящих за пределы простого пересказа материалов. Но вот кончился лицей, кончается петербургский период - приходит мысль о Дерпте: «Да, профессура в Дерпте, зеленый садик, жалюзи на окнах, лекции о литературе. Пусть проходят годы, которых не жалко. Осесть. Осесть навсегда». Является новый повествовательный тон: в книгу врывается лирическая интонация, сливающая повествование с голосом героя. Прямой комментарий автора, объясняющий поступки героя или описывающий окружающую его обстановку, начинает сокращаться: намечаются признаки какого-то жанра, рождающегося независимо от первоначальных намерений. Появляются дневники Кюхельбекера, которые перебиваются эпизодическими главками (Кюхельбекер у Тика, Бенкендорф у царя), - композиция романа становится «кусковой». Особую остроту (и стилистическую и смысловую) приобретают диалоги персонажей.
Постепенно интонация завоевывает себе все большие права и пространства; сообщения о фактах звучат уже не так, как в начале романа. Глава «Декабрь» кончается так: «Сенат белеет колоннами, мутнеет окнами, молчит. Площадь пуста. Черной, плоской, вырезанной картинкой кажется в темном воздухе памятник Петра. В ночном небе вдали еле обозначается игла Петропавловской крепости. Ночь тепла. Снег подтаял. Чугун спит, камни спят. Спокойно лежат в Петропавловской крепости ремонтные балки, из которых десять любых плотников могут стесать в одну ночь помост». Это уже совсем не повествование для юношества - это нечто качественно иное. Еще яснее выступает это новое качество, когда Тынянов говорит о дне 14 декабря: «День 14 декабря собственно и заключался в этом кровообращении города: по уличным артериям народ и восставшие полки текли в сосуды площадей, а потом артерии были закупорены, и они одним
толчком были выброшены из сосудов. Но это было разрывом сердца для города, и при этом пилась настоящая кровь... Взвешивалось старое самодержавие, битый Павлов кирпич. Если бы с Петровской площадью, где ветер носил горячий песок дворянской интеллигенции, слилась бы Адмиралтейская - с молодой глиной черни, они бы перевесили. Перевесил кирпич и притворился гранитом». Это уже не обязательно не только в повести для юношества, но и вообще в историческом романе; это рождение особого стиля, особой манеры: «сопряжение далековатых идей», при котором революция превращается в разрыв сердца, «битый Павлов кирпич» оказался символом самодержавия, а горячий песок, который несется ветром по Петровской площади, - символом дворянской интеллигенции. Эта метафора как по своему составу («сосуды площадей»), так и по методу ведет к Маяковскому.
Наряду с этим в роман введены исторические документы: одна главка состоит из переписки военного министра с рижским генерал-губернатором о бежавшем Кюхельбекере, другая - из большого послания литовского губернатора военному министру. Это тоже не обязательно для юношества, и появилось это в романе вовсе не потому, что документировать события необходимо: на фоне взволнованного авторского стиля эти документы звучат как контрастный стиль, как литература, как осуществление нового «конструктивного принципа», сталкивающего противоположные элементы, сопрягающего «далековатые» лексические ряды. Рядом с сугубо казенным, бесстрастным тоном, которым виленский полицеймейстер описывает бежавшего Кюхельбекера («Приметы, под коими скрывается сей преступник, есть следующие: лошади две крестьянские, одна из них рыже-чалая с лысиною на лбу, другая - серая. В возке, обитом лубом, с одним отбоем, а с другой стороны без оного; люди: 1-й (который должен быть Кюхельбекер) - росту большого, худощав, глаза навыкате» и т. д.) патетически звучит начало следующей главки, подхватывающее и обыгрывающее полицей-мейстерский стиль: «Из Минска в Слоним, из Слонима в Венгров, из Венгрова в Ливо, из Ливо в Окунев, мимо шумных городишек, еврейских местечек, литовских сел тряслась обитая лубом повозка, запряженная парой лошадей: одной чалой, с белой лысиной на лбу, другой - серой». И дальше, в последней главе романа, это
откликается как трагический лейтмотив, как тот самый пример «протекания» слова у Державина и Хлебникова, о котором я говорил выше; «Из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, из Шлиссельбурга в Динабург, из Динабурга в Ревельскую цитадель, из Ревельской в Свеаборгскую». Это ведь просто точный маршрут, чистейшая география, казенный стиль, а между тем названия эти звучат уже не как названия, а как похоронный марш - как медь в оркестре.
Перед нами - исторический роман, а между тем он местами лиричен, как поэма. В последней главе ритм и интонация отвоевывают себе уже большой самостоятельный участок - в виде отступления: «В самом деле, - не все ли равно, куда тебя везут, в какой каменный гроб, немного лучше или немного хуже, сырее или суше? Главное, стремиться решительно некуда, ждать решительно нечего, и поэтому ты можешь предаваться радости по пути, ты смотришь на небо, на тучи, на солнце, на запыленные зеленые листья придорожных дерев и ничего более не хочешь, - они тебе дороги сами по себе... И ты пьешь полной грудью воздух, хоть он и не всегда живительный воздух полей, а чаще воздух, наполненный пылью, которую поднимает твоя гремящая кибитка... И если даже нет кругом ни дороги, ни деревьев, ни тонкого запаха навоза сквозь дорожную пыль, если ты сидишь в плавно качающейся кибитке тюремного дощатого гроба, то все же ты испытываешь радость, - потому что гроб твой плавучий, потому что ты чувствуешь движение и изредка слышишь крики команды наверху, - в особенности если тебя везут из Петропавловской крепости, - в особенности же, если только двадцать дней назад на твоих глазах повесили двоих твоих друзей и троих единомышленников». Это уже не столько «повесть о декабристе», сколько плач о нем.
Перед нами исторический роман, а между тем мы почти избавлены от описаний и рассуждений, хотя перед читателем проходит целая эпоха с массой разнообразных лиц, событий, столкновений. Деревня Закуп с Устиньей Яковлевной, Дунечка - и Европа с папа Флери, и Кавказ с Ермоловым и Джамботом, и царь Николай, и 14 декабря, и крепость, и Сибирь. И среди всего этого - человек, за судьбой которого мы следим внимательно не потому, что с ним связана какая-нибудь тайна, а потому, что вся
его жизнь слита с историей: не только с нашим прошлым, но и с нашим настоящим. Все построено на сжатых эпизодах, на кусках, на сценах, на выразительном диалоге, который сменяется то документом, то письмом, то дневником. История становится интимной, не теряя от этого своего общего масштаба: читатель понимает ее через детали, через вещи, через человека. Микроскопический анализ, изучение атомов, метод теоретической физики перенесен из науки в художество.
Перед нами нечто вроде «biographie romancée», a между тем какая решительная и принципиальная разница! «Biographie romancée» - жанр антиисторический, модернизирующий героя; жанр отчасти публицистический, отчасти авантюрный; «легкое чтение» для людей, уставших от истории или изверившихся и в ней и в науке. «Кюхля» (и еще определеннее «Смерть Вазир-Мухтара») - выступление против этого жанра, образовавшегося на развалинах исторической науки и беллетристики, и преодоление его.
Кюхельбекер нашел себе место и в истории и в современности. После «Кюхли» можно было издать его стихотворения и написать о нем научную работу. «Архаисты и Пушкин», «Кюхля», собрание сочинений Кюхельбекера со статьей и с комментариями - так последовательно вводил Тынянов этого обойденного старым литературоведением писателя и революционера в сознание современного читателя, литератора, литературоведа 1 .
Исторический роман (если только он - не простая разновидность авантюрного) всегда так или иначе соотнесен с современностью; однако виды этой соотнесенности бывают разные и даже противоположные. Бывает соотнесенность с установкой на современность - своего рода историческое иносказание, построенное на модернизации прошлого; произведения такого типа часто принимают характер либо памфлета, либо наоборот - героического эпоса, в зависимости от идеологических намерений автора. В обоих случаях они в той или другой степени
1 Дело еще не доведено до конца: надо издать полное собрание его сочинений (с прозой и со статьями), дневники, переписку.
антиисторичны и ничего общего с исторической наукой не имеют. Бывает соотнесенность иная - с установкой на прошлое, которое какими-нибудь нитями связано с современностью; пафос автора в этом случае направлен на новое истолкование прошлого, наоткрытие в нем незамеченных или непонятых прежде тенденций и смыслов, на новую интерпретацию загадочных событий и лиц. В этом случае роман прямым образом связан с исторической наукой, представляя собою не простое иносказание, а определенную (хотя и выраженную художественными средствами) концепцию эпохи. Он насыщен историческим материалом, тщательно документирован и построен большей частью на исторических лицах, а не на вымышленных персонажах. Его цель - раскрыть в прошлом (хотя бы при помощи художественных догадок) нечто такое, что может быть замечено и понято только на основе нового исторического опыта. Современность в этом случае - не цель, а метод.
Очень своеобразен в этом отношении роман Толстого «Война и мир». Это и памфлет, и героический эпос, и новая интерпретация эпохи вместе, а в целом - это не столько исторический, сколько семейно-психологический роман. Его соотнесенность с современностью (и именно с общественно-политической современностью) несомненна, но эта соотнесенность идет по линии понимания не столько отдельных явлений или проблем, сколько общей проблематики исторического процесса. Именно поэтому «Война и мир» занимает совершенно особое место в европейской исторической беллетристике, являясь одновременно и высшей ее точкой и ее преодолением или даже разрушением. Толстой полемически утверждал, что исторический процесс совершается поверх человеческого сознания - как процесс стихийный, законы которого недоступны разуму. Наполеон высмеян именно потому, что он воображал себя человеком, от воли которого зависит будущее народов. Историю делают обыкновенные люди, массы, и именно в той мере, в какой они живут обыкновенной человеческой жизнью. Историческая необходимость не исключает свободы, как и наличие нравственной свободы не исключает необходимости, потому что свобода - факт человеческого сознания. Отсюда - своеобразный «фатализм», который не исключает понятия свободы действий и поступков.
Толстой строит свой роман не на исторических лицах, а на вымышленных персонажах, и притом без всякой исторической стилизации; это сделано именно потому, что он выступает против исторической науки и ее теоретических основ в целом. Его историзм, вынесенный в особые главы, соединяется с решительным и принципиальным антиисторизмом (поскольку дело касается человеческого поведения) - этим противоречием вдохновлен весь замысел. После «Войны и мира» Толстой продолжал полемику с исторической наукой, отрицая ее право на существование и выдвигая художественный метод («история-искусство» 1) как единственно возможный и целесообразный. Однако, взявшись за эпоху Петра Великого, а затем - декабристов, он потерпел неудачу, потому что решил перейти от общей проблематики исторического процесса к отдельным эпохам - к разматыванию «узлов русской жизни» 2 . Это оказалось невозможным, потому что ни простая модернизация прошлого, ни новое истолкование эпохи, основанное на опыте современности, но входили в его намерения и не соответствовали его позиции. Ему нужно было оторвать человека от истории, чтобы освободить законы нравственности от ненавистных ему законов прогресса и исторического развития. «Война и мир», в сущности, снимала проблему исторического романа, поскольку настоящая, подлинная человеческая жизнь совершается независимо от истории и остается в этом смысле фактом внеисторическим - как внеисторична природа.
Все это характерно для 60-х годов и для позиции Толстого. Пафос нашей эпохи и ее проблематика - иные, кое в чем соприкасающиеся с эпохой наполеоновских войн и последующих революций. История плотно вошла в наше сознание, в нашу обыденную жизнь. Чувство истории стало основной эмоцией современного человека, окрашивающей собою все его поведение; художественное раскрытие этой эмоции и ее влияния на психику сделалось основной задачей писателя. Историческое мышление органически слилось с художественным.
1 Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч. («Юбилейное издание»),т. 48, Гослитиздат, М. 1952, стр. 124 - 126.
2 Там же, т. 61, стр. 349.
Декабрист Бестужев-Марлинский писал в 1833 году: «Мы живем в веке историческом... История была всегда, совершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. Она буянила и прежде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала героев в прах... но народы после тяжкого похмелья забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас всеми чувствами. Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильоне... Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода. История - половина наша, во всей тяжести этого слова» 1 . Нечего говорить о том, насколько острее и глубже переживает это чувство истории человек нашей эпохи, но слова Бестужева именно поэтому кажутся нам понятными и верными. Для современного человека вопросы личной судьбы неразрывно связаны с вопросами общественно-историческими.
Я употребил слово «судьба» в том смысле, в каком оно подчеркивает наличие некоторой необходимости или закономерности и дополняет, таким образом, более безразличное слово - «биография». Чувство истории вносит в каждую биографию элемент судьбы - не в грубо фаталистическом понимании, а в смысле распространения исторических законов на частную и даже интимную жизнь человека. Исторический роман нашего времени должен был обратиться к «биографии» - с тем чтобы превращать ее в нечто исторически закономерное, характерное, многозначительное, совершающееся под знаком не случая, а «судьбы». Это уже есть в «Кюхле»; в «Смерти Вазир-Мухтара» это является своего рода доминантой - и сюжета и стиля.
Тынянов сосредоточивал все свое и научное и художественное внимание на декабризме. Это произошло, очевидно, потому, что эпоха декабризма, очень важная для понимания всего общественного, политического и культурного развития России (один из «узлов русской жизни», по выражению Толстого), оставалась до револю-
1 А. А. Бестужев-Марлинский, О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем». - Соч., т. 2, Гослитиздат, М. 1958, стр. 563 - 564.
ции во многом темной и неразгаданной. Революция бросила свет назад - на весь XIX век: и на события и на судьбы отдельных людей.
Кюхельбекер был вовсе забыт - и как писатель и как человек, - а между тем роль его в борьбе за новую литературу была немалой. В жизни Кюхельбекера не было ничего загадочного, но ее надо было раскрыть как трагическую «судьбу» последовательного декабриста - как жизнь человека, «рожденного для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия». Рядом с ним перед Тыняновым встал другой образ: человека, имя которого известно каждому школьнику, - гениального автора «Горя от ума». Строки этой комедии вошли в обиходную речь, а между тем жизнь ее автора и его судьба - сплошная загадка. Если Кюхельбекер, несмотря на свои странности и чудачества, совершенно ясен и может быть героем «повести о декабристе» для юношества, то Грибоедов - сложная историческая проблема, почти не затронутая наукой. Гениальный писатель - и реальный политик, дипломат крупного масштаба; друг декабристов, оказавшийся в обществе палачей и предателей, как отступник, как ренегат; аккуратный чиновник, удачливый карьерист - и загадочный конспиратор, человек, носившийся с какими-то грандиозными замыслами переустройства всей России. И, наконец, - загадочная, трагическая гибель, которая наложила печать тайны на все его поведение.
Кюхельбекер после 1825 года - «живой труп»: его гражданская жизнь кончается в день 14 декабря; деятельность Грибоедова развертывается именно после 1825 года. Жизнь Кюхельбекера - это декабризм в его первой стадии, кончающейся восстанием; жизнь Грибоедова - это жизнь последнего декабриста среди новых людей: трагическое одиночество, угрызения совести, встреча с новым, чужим поколением. «Благо было тем (говорит Тынянов во вступлении к роману), кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами со звонкими рыжими баками! Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!» Такова тема нового романа, логически, почти научно вытекающая из первого - как второй том художественной монографии, посвященной декабризму.
«Смерть Вазир-Мухтара» открывается вступлением, вводящим и в тему и в стиль романа. Этот роман написан совсем в иной манере, чем «Кюхля». Повествовательный тон здесь вовсе отсутствует: вместо него - либо внутренние монологи, либо диалог, либо авторский комментарий, принимающий различную окраску, но никогда не переходящий в простое повествование, в обыкновенную «косвенную речь». Лирическая интонация, только временами появляющаяся в «Кюхле», играет здесь роль основного конструктивного принципа и ритмизует язык романа - напряженный, метафорический. Это чувствуется с первых слов вступления: «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа - восставшие бежали по телам товарищей - это пытали время, был «большой застенок» (так говорил в эпоху Петра)». Следующие фразы дают целый клубок метафор, создающих впечатление стиховой речи: «Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга». Здесь все слова значат не то, что они значат обыкновенно, взятые отдельно. Использованы и приведены в действие все второстепенные (колеблющиеся) признаки значения - те самые, о которых Тынянов писал в «Проблеме стихотворного языка». Даже фамилий Бенкендорфа звучит здесь не как фамилия, а как особое, многозначительное слово.
Это новая проза, рожденная не инерцией, а использованием стиховых методов. Временами слышится Хлебников, или Маяковский, или Пастернак. Жандармские лица, «тянущиеся лосинами щек», заставляют вспомнить Маяковского: «Жандармы вселенной, вылоснив лица» («Стоящим на посту»). Вторая глава заканчивается патетической парафразой на «Слово о полку Игореве»: «Встала обида. От Нессельрода, от мышьего государства, от раскоряки-грека, от совершенных ляжек тмутараканского болвана на софе - встала обида. Встала обида в силах Дажьбожа внука… Встала обида, вступила девою на землю - а вот уже пошла плескать лебедиными крылами». Это, конечно,
от Хлебникова, как от Хлебникова и многое другое в стиле и жанре романа. Напомним слова Тынянова о Хлебникове: «Влияние его поэзии - факт совершившийся. Влияние его... прозы - в будущем». И еще: «Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с большим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное, ежеминутное оттесняется «тарою» литературного языка и объявлено «случайностью». И вот случайное стало для Хлебникова главным элементом искусства» (588). Это относится к прозе самого Тынянова в большей степени, чем к Хлебникову. В «Смерти Вазир-Мухтара» все дается через случайное, через интимное - через детали, через смешение малого с большим.
Статью о Хлебникове можно вообще рассматривать как своего рода комментарий к «Смерти Вазир-Мухтара» или наоборот - смотреть на этот роман как на осуществление принципов, декларированных статьей. Тем, кто не видит у Хлебникова ничего, кроме «зауми» и «бессмыслицы», Тынянов рекомендует прочитать его прозу («Николай», «Охотник Уса-Гали», «Ка» и др.): «Эта проза, семантически ясная, как пушкинская, убедит их, что вопрос вовсе не в «бессмыслице», а в новом семантическом строе». О стиховой речи Хлебникова Тынянов говорит: «Это - интимная речь современного человека, как бы подслушанная со стороны, во всей ее внезапности, в смешении высокого строя и домашних подробностей, в обрывистой точности, данной нашему языку наукой XIX и XX веков в инфантилизме городского жителя... Перед судом нового строя Хлебникова литературные традиции оказываются распахнутыми настежь. Получается огромное смещение традиций. «Слово о полку Игореве» вдруг оказывается более современным, чем Брюсов» (590 - 591). И наконец - общая характеристика: «Хлебников смотрит на вещи как на явления взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание - вровень. Для него нет замызганных в поэзии вещей (начиная с «рубля» и кончая «природой»), у него нет вещей «вообще», - у него есть частная вещь. Она протекает, она соотнесена со всем миром и поэтому ценна. Поэтому для него нет «низких» вещей... Это возможно только при отношении к самому слову как к атому, со своими процессами и строением. Хлебников - не коллекционер слов, не собственник, не
эпатирующий ловкач. Он относится к ним, как ученый, переоценивающий измерения» (592 - 593).
Все это имеет непосредственное отношение к прозе Тынянова - и прежде всего к.«Смерти Вазир-Мухтара». Все его усилия направлены здесь на то, чтобы преодолеть традиционную семантическую систему «повествования», традиционный «плотный и тесный язык литературы», смешать «высокий строй и домашние подробности» (591), дать вещь в ее соотнесенности с миром, дать явление в процессе, в протекании, ввести «случайное», интимное. Тынянов относится к слову (повторим уже высказанную раньше мысль, но в формулировке самого Тынянова) «как к атому, со своими процессами и строением» - «как ученый, переоценивающий измерения». Происходит полное смещение традиций - и «Слово о полку Игореве» входит в роман на правах нового строя художественной речи: «О, дремота перед отсроченным отъездом, когда завязли ноги во вчерашнем дне, когда спишь на чужой кровати, и в комнате как бы нет уже стен, и вещи сложены, а ноги завязли и руки связаны дремотой. Из порожних тул поганых половцев сыплют на грудь крупный жемчуг, без конца. Дремлют нот, что чувствовали теплые бока жеребца, лежат руки, как чужие государства. Дышит грудь, волынка, которую надувают неумелые дети. Тириликает российская балалайка на первом дворе... Ярославна плачет в городе Тебризе на английской кровати. Она беременна, и беременность ее мучительная. Тириликает казацкая балалайка на первом дворе... Дремота заколодила дороги, спутала Россию. И нужно разгрести тысячи верст хворосту, чтобы добраться и услышать: плачет Ярославна в городе Тебризе. Тириликает российская балалайка на первом дворе». Это - и «Слово о полку Игореве» и Хлебников: «О, Сад, Сад! Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку. Где немцы ходят пить пиво. А красотки продавать тело. Где орлы сидят, подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера дном. Где верблюд знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая. Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем. Где наряды людей баскующие. А немцы цветут здоровьем... Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг» («Зверинец»). И замечательно, что эта описательная поэма Хлебникова, построен-
ная на семантических опытах, заканчивается напоминанием о «Слове о полку Игоревен: «Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов „Слово о полку Игореви”».
При таком отношении к слову («как к атому, со своими процессами и строением») пропадает действительно всякая разница между низкими и высокими вещами. Торжествуя свою победу над инерцией, над «плотным и тесным языком» прежней литературы, Тынянов вводит в роман все, что ему нужно, не боясь ни быта, ни истории, ни экзотики, ни поэзии. Все дается «вровень» - взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание. Тут кое в чем помог и Пастернак, у которого Тынянов заметил стремление «как-то так повернуть слова и вещи, чтобы слово не висело в воздухе, а вещь не была голой, примирить их, перепутать братски» (562 - 563). И вот у Пастернака делаются обязательными «образы, вяжущие самые несоизмеримые, разные вещи» (565), а случайность «оказывается более сильною связью, чем самая тесная логическая связь» (566).
В «Смерти Вазир-Мухтара» все случайное становится обязательным, необходимым. Здесь всем владеет история, потому что каждая вещь существует не сама по себе, а в соотнесении с миром. Отсюда - обилие метафор, сравнений, образов, иногда самых неожиданных и смелых, построенных на «сопряжении далековатых идей». Весь роман построен на «сопряжении» истории и человека - на извлечении исторического корня из любого эпизода, из любой детали. В. Шкловский верно отметил: «Роман построен как исследование уравнения. Взята формула эпохи и проведена до конца. Ею вскрыты отдельные эпизоды» 1 .
Это не фатализм, а диалектика свободы и необходимости, трагически переживаемая Грибоедовым, одиноким, потерявшим и дружбу и любовь, оказавшимся в положении изменника, ренегата. Роман начинается не с детства или юности Грибоедова (как это было в «Кюхле»), а с того момента, когда он теряет власть над своей жизнью и биографией, когда история вступает в свои права. Первая фраза романа: «Еще ничего не было решено» - определяет эту границу. На самом деле все решено,
1 В. Шкловский, Об историческом романе и о Юрии Тынянове. - «Звезда», 1933, № 4, стр. 172.
потому что «время вдруг переломилось», «отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь». Отныне все решается помимо воли Грибоедова - и он с изумлением и ужасом, а под конец и с холодным презрением смотрит на собственную жизнь: «Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы». Роман недаром назван так, как будто речь идет не о жизни и не о Грибоедове: «Смерть Вазир-Мухтара».
Во всем романе есть одна пауза - время останавливается, и история точно забывает о Грибоедове: он по дороге в Персию застревает у казачки, в воронежских степях. «Радостно почувствовать под ногами не бледную пыль дороги, а синюю траву, примятую босыми ногами, распрямиться и вдруг понять, что вкусней всего - молоко с черным хлебом, нужней всего - самый крохотный угол на земле, пускай чужой, с этим помириться можно, сильней всего - женщина, молодая, молчаливая... Странное дело: он был счастлив».
Это один из самых важных эпизодов романа, созданный воображением автора без всякой опоры на документ. Грибоедов в дороге - это интимный Грибоедов, оставшийся наедине с самим собой. Он ушёл не только от людей, но и от истории: спрятался, исчез. «Но, стало быть, он беглец, в б
Эта-то «личность» тона, новая установка литературы в эпоху Карамзина, отбирала темы и толкала на них, причем «минор» и «слезливость» были результативными, а не начальными признаками течения.
Но ода, как направление, а не как жанр, не пропадает. Обреченная на потаенную, подземную жизнь, опальная, она всплывает в бунте архаистов, сначала старших (Шишков), затем младших (Катенин, Грибоедов, Кюхельбекер) . Целью основания "Беседы любителей русского слова" было "попечение о ясном произношении, о чистом выговоре <…> о всех изменениях голоса, делающих всякое отличное выражение более приятным и более вразумительным, отчего как язык, так и стихотворство, или вообще словесность много приобретают" . Шишков выступает с теоретическим обоснованием поэзии как «звукоподражания»; тогда как семантические изучения арзамасцев обычно касаются ассоциаций, связанных с отдельным словом, корнесловие Шишкова оправдывает неожиданное сближение слов через подобные фонические элементы слова. [Нельзя, однако, не отметить, что Шишков своим корнесловием как нельзя лучше соответствует новому течению с его обостренным интересом к семантическим единицам, к семантике отдельных слов, а но к большим семантическим группам ("сопряжение идей").] Характерной фигурой на пороге двух эпох является Гнедич, объединяющий звание поэта со званием декламатора, признанный оценщик стихов, переводящий их при этом в декламационный план.
Борьба за оду отмечает средину двадцатых годов - поворотный момент в развитии лирики, когда были исчерпаны послание и элегия; сюда относятся опыты и выступления Грибоедова и Кюхельбекера.
Ода сказывается и в другом боковом течении лирики - в лирике Шевырева и Тютчева; здесь происходит сложный синтез принципа ораторской поэзии с использованием мелодических достижений элегии (ср. совмещение Ломоносова и итальянских влияний у Раича) и внелитературной формы дилетантского фрагмента (Тютчева) .
Таким образом, борьба за жанр является в сущности борьбой за направление поэтического слова, за его установку. [Ср. в наше время аналогичную борьбу жанров: новой "сатирической оды" Маяковского с новой «элегией» (романсного типа) Есенина. В борьбе этих двух жанров сказывается та же борьба за установку поэтического слова. 1928 .] Борьба эта сложна; самые большие достижения получаются иногда в результате использования опыта враждебных школ, но самая борьба эта в основе есть борьба за функцию поэтического слова, за его установку, соотнесенность с литературой, с речевыми и внелитературными рядами.
Изучение стиха сделало в последнее время большие шаги; ему предстоит развиться в близком будущем в целую область, хотя завоевана она сравнительно недавно.
Но в стороне от этих изучений стояло до сих пор изучение поэтической семантики (науки о значениях слов и словесных групп, их развитии и изменении - в поэзии).
Последним значащим явлением в этой области была теория образа, представленная главным образом Потебней. Несовершенства этой теории теперь более или менее явны . Если образом в одинаковой мере являются и обычное, повседневное разговорное выражение - и целая глава "Евгения Онегина", - то возникает вопрос: в чем же специфичность поэтического образа? 2
Для Потебни этого вопроса не существовало. Это происходило потому, что центр тяжести он перенес за пределы той или иной конструкции. Каждый образ, каждое поэтическое произведение сходятся в одной точке - в идее, лежащей за пределами образа или произведения. Эта точка - X - оставляла широкое поле для иксовых метафизических спекуляций. В сущности, этим втихомолку отметается динамизм поэзии: если образ ведет к X, - важно не протекание образа (и не самый образ), а этот одновременный (симультанный) X. X. этот вне образа; стало быть, в этом X могут сойтись многие (как угодно) образы.
За выход из конструкции Потебня платится тем, что у него смешиваются в одно явления разных конструкций - разговорной речи и стиха - и, смешиваясь, не объясняют друг друга, а теснят и затемняют.
Потебнианство погибло в этом противоречии. После него изучение смысла поэтического слова пошло ощупью. Тем же пороком - игнорированием конструктивного, строевого момента в языке - больно другое направление, одно из идущих ныне ощупью: изучение смысла поэтического слова с точки зрения индивидуального языкового сознания поэта . Прослеживать психологические ассоциации, сцепление словесных групп у того или иного поэта и выдавать это за изучение поэтической семантики - можно, очевидно, только подменив поэзию поэтом и полагая, что существует некоторое твердое, односоставное индивидуальное языковое сознание того или другого поэта, не зависимое от конструкции, в которой оно движется. Но языковое сознание может быть различным в зависимости от строя, в котором оно движется. Сцепление образов будет у одного и того же поэта одним в одних жанрах, другим - в других, таким - в прозе и иным - в стихе.
Настоящая работа стремится обследовать специфические черты смысла слов в зависимости от стиховой конструкции.
Поэтому я противопоставляю абстракции «слова» - конкретное "стиховое слово" и отказываюсь от расплывчатого понятия «поэзия», которое как термин успело приобрести оценочную окраску и потерять реальный объем и содержание; взамен я беру одно из основных конструктивных категорий словесного искусства - стих.
В первой главе я выясняю конструктивный фактор стиха, оформляющий (вернее, деформирующий) другие.
Вторая касается существа вопроса, а именно тех специфических изменений смысла слова, которые оно претерпевает под влиянием конструктивного фактора стиха.
Работа моя была закончена зимою 1923 года. С тех пор вышло несколько книг и статей, имеющих некоторое отношение к ее предмету. Они использованы только частично.
Части работы я читал в Опоязе и О[бществе] художественной] словесн[ости] при Р[оссийском] институте истории искусств, членам которых, принявшим участие в обсуждении, выражаю свою благодарность.
Особою благодарностью я обязан С. И. Бернштейну за его ценные советы и указания.
Свою работу я посвящаю обществу, с которым она тесно связана, - Опоязу .
Виктору Шкловскому
Что такое литература?
Что такое жанр?
Каждый уважающий себя учебник теории словесности обязательно начинает с этих определений. Теория словесности упорно состязается с математикой в чрезвычайно плотных и уверенных статических определениях, забывая, что математика строится на определениях, а в теории литературы определения не только не основа, но все время видоизменяемое эволюционирующим литературным фактом следствие. А определения делаются все труднее. В речи бытуют термины «словесность», "литература", «поэзия», и возникает потребность прикрепить их и тоже обратить на потребу так уважающей определения науке.
Получается три этажа: нижний - словесность, верхний - поэзия, средний литература; разобрать, чем они все друг от друга отличаются, довольно трудно .
Тынянов заканчивает статью конспектом концепции, развернутой в "Архаистах и Пушкине". Ср. о державинской традиции у Кюхельбекера и Грибоедова в книге Шкловского «Розанов» (1921, стр. 12–13); Эйхенбаум. Литература, стр. 144.
Ср. пункт 13 плана "Архаические течения в русской лирике XIX века": "синтез батюшковско-шишковский: архаическая итальянская школа - Туманский, Раич, Тютчев, Ознобишин" (ПиЕС, стр. 383). См. также "Вопрос о Тютчеве" в наст. изд.
Это подстрочное примечание было и в тексте первой публикации "Оды…". Толкование Маяковского, Есенина и поэзии 1920-х годов в целом посредством жанровых обозначений «ода» и «элегия» см. также в ст. "О литературной эволюции", в тезисах доклада (1933) Эйхенбаума о Мандельштаме ("День поэзии". Л., 1967, стр. 167). Ср. в письме Тынянова к Шкловскому от марта - апреля 1927 г.: "Если у оды срывается голос, побеждает элегия (Есенин)" (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 723).
В архиве Тынянова сохранился листок с тезисами выступления, тема которого обозначена автором словами: "Что было Есениным и что стало Есениным" (запись датируется приблизительно мартом 1927 г.). Эти тезисы намечают тему «новой» оды и элегии: "Его стихи - резкий и канонический жанр - элегия, с кающимся героем со смертью героя etc. (Мюссе).
В конце XVIII в. билась ода с элегией, так теперь бьется Маяковский] с Есениным. Державин был разбит Жуковским.
Диапазон ораторской, возбуждающей лирики сменился камерным человеческим голосом. Литавры - гитарой. Но потом пришла очередь и элегий - их пародировали. Скоро, очень скоро для нас станут пародическими стихи Маяк[овского], как теперь пародичен насквозь Вяч. Иванов. - А потом придут пародии на есенинство, захлестывающее р[усскую] поэзию. Я говорю: ес[енин]ство… Есенин был в данном случае и больше и выше ес[енин]ства. <…> Я - человек из поколения литавр, переходящего к человеческому голосу. Я борюсь против есенинства. Но Есенин - важное предупреждение. Он усталость, он - нейтральная база <…> Надо начинать сначала. Элегия борется с нашей одой, захлестывает ее. Но она недолговечна" (АК).
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ "ПРОБЛЕМА СТИХОВОЙ СЕМАНТИКИ"
Публикуется впервые. Печатается по рукописи (ЦГАЛИ, ф. 2224, оп. 1. ед. хр. 61).
Первый вариант предисловия к книге Тынянова, изданной под названием "Проблема стихотворного языка". Авторская дата: "Разлив, июль 1923 г.". Судя по типографским пометам, предисловие предназначалось для печати, но в последний момент было заменено другим.
Еще в 1919 г. в Доме искусств Тынянов читал годовой курс "Язык и образ", связанный с проблематикой будущей книги (анкета от 27 июня 1924 г. ИРЛИ, ф. 172, ед. хр. 129). В заявлении о перерегистрации изд-ва «Опояз» от декабря 1921 г. в числе готовящихся изданий названа книга Тынянова "Семантика поэтического языка" (ЛГАЛИ, ф. 2913, оп. 1, ед. хр. 8, л. 29 об.). В публикуемом предисловии автор указывает дату завершения работы зима 1923 г. Тогда же он сделал в ГИИИ доклад (разделенный на два заседания: 25 февраля и 4 марта) "Проблема стиховой семантики" (ЗМ, стр. 221). В это же время части работы были читаны в Опоязе. В заседании Разряда словесных искусств ГИИИ 6 апреля 1923 г. о книге говорилось как о намеченной к печатанию в числе первых выпусков серии, названной "Вопросы поэтики" (ЛГАЛИ, ф. 3289, оп. 1, ед. хр. 67, л. 87), но 2 мая 1923 г. было решено прежде издать книги Б. В. Томашевского ("Русское стихосложение") и Б. М. Эйхенбаума ("Сквозь литературу"), выкупив их в издательстве Сахарова, где они уже были начаты печатанием (там же, л. 92). Летом 1923 г. книга была полностью готова: 5-м июля датировано опубликованное предисловие (ПСЯ, стр. 23).
В конце сентября - начало октября 1923 г. Тынянов писал В. Б. Шкловскому: "Я за это время довольно много наработал, но ни одна собака меня не хотела печатать. До сих пор лежит у меня моя «Семантика» - книжка 7–8 листов, для меня наиболее важная и центральная, покамест (теперь, кажется, уже нашлась одна собака, которая как будто соглашается печатать <…>). «Семантику» свою я должен тебе во что бы то ни стало прочесть или сообщить" (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 722). 26 октября он писал тому же адресату, что книга эта, "посвященная Опоязу и тебе", уже готовится к изданию (там же). О причинах изменения заглавия Тынянов писал 14 января 1924 г. Л. Лунцу: "Если Вам интересно знать об Опоязе, то он работает, больше вглубь, чем вширь (ибо Вы не узнали бы теперь ученой литературы - все стали формалистами и кричат "и я" даже по-немецки: I-а а). Эйхенбаум у нас стал Августом Шлегелем, пишет много, интересно и изящно. Я печатаю не очень изящную книгу: "Проблема стихотворного языка" (название принадлежит издателю, который испугался "Стиховой семантики"). Выйдет в феврале, вероятно, - и я Вам вышлю" ("Новый журнал", 1966, кн. 83, стр. 141–142).
а См. в стихотворении Г. Гейне "Ослы - избиратели": "Мы все здесь ослы! И-а! И-а!" (пер. Тынянова).
ПСЯ занимает особое место в научном наследии Тынянова: это исследование имело целью раскрыть не механизм историко-литературного движения, а некоторые константные свойства поэтического языка. На фоне интенсивных стиховедческих штудий 10-20-х годов ПСЯ выделяется оригинальностью подхода к предмету. Оставив в стороне метрику и лишь в строго определенном аспекте касаясь фонетической и интонационно-синтаксической организации стихотворной речи, Тынянов сосредоточился на поэтической семантике (что и было отражено в авторском названия книги) и показал действие кардинальных факторов, формирующих смысл стиха. В указ. анкете от 27 июня 1924 г. он писал (имея в виду различение своих научных и критических работ от статей фельетонного типа, подписанных псевдонимом Ван-Везен): "Наиболее характерной работой для Тынянова считаю "Проблему стихотворного языка". В этой книжке дано введение или, вернее, первая часть намеченных мною работ о семантике художественной речи". "Эта книга, - говорил о ПСЯ Б. В. Томашевский в своей речи на вечере памяти Тынянова 9 января 1944 г., - в противоположность книге "Архаисты и новаторы", еще органически не воспринята русской наукой и во многих отношениях свежа до сегодняшнего дня. Задачи, поставленные Юрием Николаевичем, остаются очередными задачами сегодняшнего литературоведения. <…> Это книга, которую надо изучать, которую надо усвоить, которую надо продолжить" (цит. по стенограмме, хранящейся у П. Г. Антокольского).
Идея глубокого воздействия словесной конструкции на значение, тыняновские анализы семантических трансформаций слова, включенного в стих, намного опередили свое время. Из всех работ Тынянова именно ПСЯ оказала самое сильное я самое плодотворное влияние на позднейшую филологию.
Публикуемый вариант предисловия отличается от напечатанного более органичной для Тынянова терминологией и шире развернутой полемикой - с теорией образа Потебни, а также с некоторыми последующими течениями в поэтике.
С критикой теории образности Потебни с позиций противопоставления ей категории «построения» (ср. «конструкция» у Тынянова) впервые выступил В. Б. Шкловский. См. его работы, указ. в прим. 2 на стр. 470, а также статью "Из филологических очевидностей современной науки о стихе" ("Гермес". Сб. I. Киев, 1919, стр. 67).
Речь идет об аналогии в теории Потебни между словом и художественным произведением. На ней строится и его теория художественного творчества в целом. Трем элементам слова соответствуют три элемента произведения: внешней форме слова (членораздельному звуку) - внешняя форма поэтического произведения, его словесная воплощенность, внутренней форме слова - образы произведения (характеры, события), которые, как и в отдельном слове, не есть содержание, но знак, или символ, это содержание лишь манифестирующий. Содержание же, представляемое образом, есть третий элемент произведения; его аналог в слове - лексическое значение. Эта аналогия подчеркивает и утверждает фундаментальное положение поэтики Потебни - о поэтичности слова как субстанциональном его свойстве.
Одновременно здесь у Тынянова - скрытая полемика с Г. Г. Шпетом. Ср.: ""Памятник" <…> "Евгений Онегин" - образы; строфы, главы, предложения, "отдельные слова" - также образы" (Г. Шпет. Эстетические фрагменты. III. Пг., 1923, стр. 33).
Имеется в виду символическое изложение (с обозначением через X, А, а) Потебней некоторых положений его теории - о значении поэтического образа, его составных частях, идее и содержании и т. п. В книге "Из записок по теории словесности" (Харьков, 1905) некоторые тексты, включающие «иксовые» обозначения, были напечатаны, как видно из сопоставления книги с рукописями Потебни (ЦГИА УССР, ф. 2045), с большими искажениями, что затемняло их смысл.
У Потебни на самом деле - более широкое противопоставление: не разговорной речи и стиха, а поэзии и прозы; в последнюю он включал не только обыденную речь, но и язык и категории науки. Но для него, действительно, не было разницы между словом в стихе и словом в прозе, ибо речь шла о "поэтическом слове" и "прозаическом слове", живущем каждое собственной жизнью; и то и другое могло существовать в любом виде речи, независимо от ее принадлежности к стиху или прозе или вообще вне конструкции. Поэтому "темп, размер, созвучие" (А. Потебня. Из записок по теории словесности, стр. 97) не самое существенное для поэзии. Тынянов же, ставя вопрос - в чем специфичность стихового слова и чем оно отличается "от своего прозаического двойника" (ПСЯ, стр. 75), - решал его только обращением к фактам конструкции: стиховое слово включается в ритмическое единство, где действуют (в терминологии ПСЯ) факторы тесноты стихового ряда, динамизации и сукцессивности речевого материала. Потебнианскую теорию образа Тынянов также критиковал за "игнорирование конструкции, строя" (ПСЯ, стр. 168), которые, по Тынянову, являются решающими; поэтому "не одно и то же образ стиховой и образ прозаический" (ПСЯ, стр. 170). Следует отметить, впрочем, что Тынянов, развивая свои положения о конструктивной роли ритма, об эквивалентах текста, обращался и к некоторым мыслям Потебни (см. ПСЯ, стр. 46, 40). Правда, в последнем случае, ссылаясь на указание Потебни относительно усиления ритмических элементов в эволюции поэзии, Тынянов специально оговаривает, что это указание "не имело отношения к общей системе Потебни". Неясно, однако, что можно считать "системой Потебни", - его обобщающая работа по поэтике "Из записок по теории словесности" не была завершена, и многие фрагменты ее показывают, что в позднейшие годы теоретические взгляды Потебни времени "Мысли и языка" подвергались авторевизии, и иногда существенной.
Как сторонник психологического метода, Потебня исходил из бытия произведения в воспринимающем сознании. Но, созерцая движение слова в поле этого сознания, он пытался прежде всего постичь взаимоотношение структурных элементов самого слова и самого текста. Его последователи не пошли в этом направлении. "Единственный путь, - писал А. Г. Горнфельд, - это восхождение к автору, к его духовному миру" (А. Горнфельд. Пути творчества. Пг., 1922, стр. 113). Легко отходил от текста и обращался к "личному душевному складу" поэта, его "психологическому диагнозу" и Д. П. Овсянико-Куликовский. Теорию возникновения и восприятия слова и текста ученики Потебни расширили до зыбких пределов "психологии творчества".
Полемика с В. В. Виноградовым, провозглашавшим в ряде работ (не исчерпывающих, впрочем, систему его взглядов) "проникновение в индивидуальное поэтическое сознание" "необходимым условием лингвистического анализа" (В. Виноградов. О символике А. Ахматовой. - "Литературная мысль". Альманах I, Пг., 1922, стр. 236). Эти же принципы - в работе Виноградова "О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)", написанной в 1923 г., но опубликованной позже (Л., 1925).
В указанной работе главной задачей, которая и была в обозначенных автором пределах выполнена, В. В. Виноградов считал "показать характерные особенности семантических сплетений в поэзии Ахматовой и обусловленные ими индивидуальные отличия в значении символов, определив пути движения словесных ассоциаций в языковом сознании поэтессы" ("О символике А. Ахматовой", стр. 92).
Сергей Игнатьевич Бернштейн (1892–1970) - лингвист, автор работ по стиху и проблемам звучащей художественной речи, в это время - заведующий Кабинетом изучения художественной речи при Разряде истории словесных искусств ГИИИ. С Тыняновым он был хорошо знаком еще по Петербургскому университету, где в 1912–1915 гг. занимал должность библиотекаря Пушкинского семинария (curriculum vitae от 7 мая 1924 г. - ЛГАЛИ, ф. 3289, оп. 2, ед. хр. 55, л. 105); в ГИИИ они вели совместный семинарий по лексикологии поэтического языка. Активное творческое сотрудничество Бернштейна и Тынянова в ГИИИ было связано именно с проблематикой ПСЯ, входившей в круг их общих научных интересов. См. также комментарии к статьям "Ода как ораторский жанр" и "Вопрос о Тютчеве".
Опояз - общество изучения поэтического языка. Некоторые из основных его идей впервые были обнародованы в кн. В. Б. Шкловского "Воскрешение слова" (1914); в 1916–1919 гг. его участники группировались вокруг "Сборников по теории поэтического языка". В curriculum vitae, представленном в ГИИИ 15 октября 1920 г., В. Б. Шкловский писал: "В 1915 г. вернулся в Петербург и, организовав кружок филологов, издал первый "Сборник по теории поэтического языка" <…> В 1916 г., служа в авиационной роте, издал второй «Сборник» б <…> В 1917 г. поехал на фронт, был ранен в живот при июньском наступлении. Конец войны провел в Северной Персии. В 1918 г., вернувшись в Петербург, редактировал сборник "Поэтика"" (ЛГАЛИ, ф. 3289, оп. 1, ед. хр. 66, л. 51). Согласно Р. О. Якобсону, решение о создании общества было принято на обеде в квартире О. М. Брика в феврале 1917 г. (кроме Брика и Якобсона присутствовали В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум и Л. П. Якубинский). - R. Jakobson. Selected Writings, v. II. The Hague - Paris, 1971, p. 529–530. См. его заметку о Брике в кн.: Michigan Slavic Materials, № 5. О. M. Brik. Two Essays on Poetic Language. An Arbor, 1964. Устав Опояза имеется в нескольких экз. в ЦГАЛИ (ф. 1646, оп. 1, ед. хр. 27; ф. 562, оп. 1, ед. хр. 812; ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 727).
б Ценз. разреш. первого сборника - 24 августа 1916 г., второго - 24 декабря 1916 г. Сборники печатались в типографии визитных карточек З. Соколинского. На последней странице обложки стоял знак [ОМБ], "что означает Осип Максимович Брик" (В. Шкловский. О Маяковском. М., 1940, стр. 95). О. М. Брик финансировал эти сборники.
Говоря об истории Опояза, следует иметь в виду, что ни в первое время своего существования, ни после Октябрьской революции, когда он "получил штамп, печать и был зарегистрирован" (В. Шкловский. Жили-были. М., 1966, стр. 127), "Опояз никогда не был регулярным обществом, со списком членов, общественным положением (siege social), статусом. Однако в продолжение наиболее рабочих лет он имел подобие организации в форме бюро" (В. Tomasevskij. La nouvelle ecole d"histoire litteraire en Russe. - "Revue des etudes slaves", 1928, v. VIII, p. 227). В виде свободного содружества кружок, по свидетельствам Шкловского, высказанным в беседах с комментаторами настоящего издания, существовал еще до выхода сборников и был создан им и Якубинским (с которым Шкловского в 1915 - начале 1916 г. познакомил И. А. Бодуэн де Куртенэ, заинтересовавшийся футуризмом, - он надеялся получить из поэтической зауми данные о жизненности некоторых аффиксов). Несколько позже к ним присоединился Е. Д. Поливанов, а затем Б. М. Эйхенбаум. Дневник Эйхенбаума 1917–1918 гг. (ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, ед. хр. 245) показывает, что особенно интенсивным было в это время его научное общение со Шкловским и О. М. Бриком. Тынянов в записях за эти годы еще не упоминается. В общество входили также Б. А. Кушнер, Вл. Б. Шкловский. В объявлении в "Жизни искусства" (1919, 21 октября, № 273) в качестве членов указаны, кроме того, С. И. Бернштейн, А. Векслер в, Б. А. Ларин, В. А. Пяст, Е. Г. Полонская, А. И. Пиотровский, М. А. Слонимский; Тынянов в этом объявлении не назван. Близкие к Опоязу позиции в ряде работ занимали Б. В. Томашевский, B. М. Жирмунский, В. В. Виноградов (в то же время последние существенно расходились с Опоязом и неоднократно выступали с критикой его платформы: ср. в наст. изд. прим. к рецензии на альманах "Литературная мысль", "Запискам о западной литературе", статьям "Ода как ораторский жанр", "О литературной эволюции", тезисам "Проблемы изучения литературы и языка"). Среди принимавших участие в Опоязе называли также C. М. Бонди, М. К. Клемана, Л. Н. Лунца, А. Л. Слонимского ("Печать и революция", 1922, № 5, стр. 393). Брошюра А. А. Реформатского "Опыт новеллистической композиции" (М., 1922) вышла под грифом "Московский кружок Опояза. Вып. I" и с объявлением о работе кружка. В ряде статей начала 20-х годов к Опоязу близок И. А. Груздев.
в Ученица В. Б. Шкловского по студии Дома искусств, печаталась в газ. "Жизнь искусства".
Тынянов вступил в Опояз в 1919 или в 1920 г., хотя знакомство с ведущими участниками группы состоялось раньше. В автобиографии он писал: "В 1918 году встретил Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума и нашел друзей. Опояз, при свече в Доме искусств спорящий о строении стиха. Голод, пустые улицы, служба и работа как никогда раньше" (ТЖЗЛ, стр. 19). Заявление в отдел печати Петроиздата о перерегистрации издательства «Опояз» от ноября 1921 г. подписано: "Председатель Виктор Шкловский. Секретарь - Ю. Тынянов" (ЛГАЛИ, ф. 2913, оп. 1, ед. хр. 8, л. 52). Это и было то бюро Опояза, о котором упоминал Томашевский (указ. соч.). Тынянов в отличие от Шкловского и Эйхенбаума не принял участия в печатной полемике вокруг Опояза (eе центральным эпизодом была дискуссия в журнале "Печать и революция", отразившая взгляд на формальный метод марксистской критики, - см. об этом во вступ. статье, а также: П. С. Коган. О Лефе, о формалистах, Жирмунском и Маяковском. - В его кн.: Литература этих лет (1917–1923). Иваново-Вознесенск, 1924; А. Цейтлин. Марксисты и формальный метод. - «Леф», 1923, № 3; М. Шагинян. Формальная эстетика. - В ее кн.: Литературный дневник. М., 1923). Тем больший интерес представляют документы, освещающие его позицию в одном из эпизодов этой полемики и помогающие пониманию его принципиальных научных взглядов. Речь идет о письме Тынянова к А. Г. Горнфельду в связи со статьей последнего "Формалисты и их противники" ("Литературные записки", 1922, № 3), написанной по поводу резкого антиопоязовского фельетона В. Ирецкого (псевд. В. Я. Гликмана) «Максимализм» (там же) и в ряде пунктов также направленной против формалистов. Тынянов писал: "Опояз непочтителен по отношению к дилетантизму, ставшему за последнее время принудительным каноном в русской истории литературы; в первый боевой период он борется против обывательского отношения к научным вопросам, которое лишало воздуха, необходимого для начала всякой живой работы. <…> Живое течение не может (1) жить без полемики и мирно сосуществовать с враждебными, (2) быть осторожным и, делая шаг вперед, делать шаг назад. <…> Виктор Шкловский сменил Пыпина и Мережковского (и не шутя ведь сменил)" (ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 489). По тому же поводу к Горнфельду обратились Эйхенбаум и Томашевский; кроме того, Эйхенбаум одновременно со своим письмом (от 6 авг. 1922 г.) послал Горнфельду "Письмо в редакцию" "Литературных записок", подписанное этими тремя членами общества (Шкловский находился в Берлине). - ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 527, 479. В ответе Эйхенбауму от 11 авг. Горнфельд отказался поместить коллективное письмо в журнале (там же, ед. хр. 188). Эйхенбаум вернулся к этой полемике в известной дискуссии о формализме ("Печать и революция", 1924, № 5, стр. 5–6), а Томашевский - в статье "Формальный метод" (в сб.: Современная литература. М., 1925, стр. 150–151).
Следует отметить, что уже в университете, в Пушкинском семинарии С. А. Венгерова Тынянов столкнулся с раннеформалистическими веяниями, возникшими независимо от устремлений руководителя семинария г и связанными отчасти с неудовлетворенностью молодого поколения филологов академической наукой, отчасти - с тем интересом к поэтике, который был принесен символизмом и поддержан поэтическими школами 10-х годов Настойчивое тяготение к изучению литературы как искусства активно выражали такие участники семинария, как М. О. Лопатто и Г. В. Маслов (см.: М. Лопатто. Повести Пушкина. Опыт введения в теорию прозы. - «Пушкинист», III. Пг., 1918, стр. 3–7; ср. прим. к статье "Георгий Маслов" в наст. изд.). Тынянов начал у Венгерова в целом традиционным рефератом о "Каменном госте" (20 февраля 1914 г.; текст - ИРЛИ, ф. С. А. Венгерова), а затем, обратившись к отношениям Пушкина и Кюхельбекера, перешел к вопросам поэтического языка и жанра и определил узловую для раннего этапа его работы проблему - пародии ("Ода его сиятельству графу Хвостову"). Именно этой проблеме посвящены наиболее близкие к исходной платформе Опояза работы Тынянова - "Достоевский и Гоголь" д, "Стиховые формы Некрасова", где историческая смена литературных явлений рассматривалась как их борьба, орудием которой и выступала пародия. В статье о Некрасове он подошел и к пониманию - это оказалось важным для последующего - функциональных различий в использовании тождественных формальных элементов. Уже в этот период Тынянов стремится к созданию понятийного, терминологического аппарата, который позволил бы теоретически четко осмыслять наблюдаемые историко-литературные факты (решение этой задачи не было им завершено). В этом смысле показательна небольшая статья "Тютчев и Гейне" (особенно если сравнить ее с публикуемой в наст. изд. незаконченной монографией того же названия). Вообще внутри Опояза научным интересам Тынянова отвечали прежде всего тенденции к построению теоретически обоснованной истории литературы. "Литературный факт" - в определенном отношении переходная работа. Намеченная здесь концепция, которую можно было бы назвать концепцией литературной релятивности, подвела некоторые итоги развития идей Опояза (таких, как выведение из автоматизма, деформация материала в конструкции и т. д.). О последнем этапе методологических исканий Тынянова, принесшем существенные отличия от раннего формализма, см. прим. к статьям "О литературной эволюции" и "Проблемы изучения литературы и языка". Поздние теоретические работы Тынянова в связи с "отходом формалистов от первоначальных позиций" рассматриваются в статье: Д. Д. Ивлев. Формальная школа и проблема единоцелостного анализа художественного произведения. - В кн.: Актуальные проблемы теории и истории литературы XX века. Рига, 1966.
г Хотя непонимание Венгеровым своих студентов достигало, по устному свидетельству С. М. Бонди, курьезных пределов, широта взглядов и терпимость профессора во многом способствовали успеху семинария. Занятия вопросами стиля, стиха и т. д. проходили с его благословения. Как рассказано в дневнике К. И. Чуковского (хранится у Е. Ц. Чуковской), Тынянов уверял, что умирающий Венгеров просил сидевших у его постели Томашевского и Тынянова: "Поговорите при мне о формальном методе".
д С пристальным вниманием наблюдавшему за деятельностью Опояза А. И. Белецкому это исследование Тынянова представлялось даже результатом коллективной работы кружка (А. Белецкий. Новейшие течения в русской науке о литературе. - "Народное просвещение". Курск, 1922, № 5–6, стр. 44).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКТ
Впервые - «Леф», 1924, № 2, стр. 101–116 (под заглавием "О литературном факте", без посвящения). С некоторыми изменениями вошло в АиН, где датировано: 1924. Печатается по тексту АиН (об отношениях со Шкловским, которому посвящена статья, см. прим. к предисловию к АиН).
Работа над статьей относится, по-видимому, ко второй половине 1923 г. года, когда интенсивнейшие историко-литературные и теоретические штудии предыдущего четырехлетия завершались обобщающими построениями в области стихового слова и литературы в целом.
Статью удалось напечатать не сразу. 25 мая 1924 г. (почт. штемп.) Тынянов спрашивал Шкловского: "Что ты сделал с моими статьями 1. "Мнимый Пушкин", 2. "Литературный факт" <…>? Если ничего нельзя, - пришли, пускай, по крайности, в столе лежат" (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 722). Судя по письму О. М. Брика Опоязу от 13 февраля 1924 г., инициатива печатания исходила от «Лефа»: "Очень просим статью Тынянова о "литературном факте" и все прочие продукции Опояза" а (Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 251. Труды по русской и славянской филологии, XV, 1970, стр. 13; ЦГАЛИ, ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 343). Анкета от 27 июня 1924 г. показывает, что в это время статья уже печатается в «Лефе» (ИРЛИ, ф. 172, ед. хр. 129). Можно думать, что Тынянов предполагал перепечатать статью в расширенном виде: в протоколе заседания Разряда словесных искусств ГИИИ от 17 декабря 1924 г. в списке трудов, намечавшихся к печати, значится "Литературный факт" (ЛГАЛИ, ф. 3289, оп. 1, ед. хр. 67).
В истории формализма - полемики, дискуссий и борьбы вокруг него нельзя не учитывать того обстоятельства, что с первых лет деятельности Опояза, помимо принципиальной научной критики, имели широкое хождение поверхностные и приблизительные толкования и применения его теории. "Мы окружены эклектиками и эпигонами, превращающими формальный метод в некую неподвижную систему «формализма», которая служит им для выработки терминов, схем и классификаций" (В. Эйхенбаум. Литература, 1927, стр. 116). От такого рода толкований предостерегал и Тынянов - ср. в уже упомянутой анкете: "О формальном методе много говорено и сейчас все более или менее формалисты. Учение о форме очень многими понимается б как учение о "формальном отношении к делу". Кой-кто не прочь «осудить» или пересмотреть формализм даже за то, что формалисты признают в стихе "только звуки" etc. etc. Все это, конечно, неправильно". Статья Тынянова, пересматривавшая некоторые основные категории литературоведения, была заметным движением вперед в развитии опоязовских идей. Ее тему можно определить как литературность (пользуясь термином Р. О. Якобсона) в эволюционном аспекте. "Статья очень важная, может быть, решающая по значению" (В. Шкловский. Третья фабрика. М., 1926, стр. 98).
а В № 1 (5) «Лефа», посвященном В. И. Ленину (о работах опоязовцев для этого номера и шла главным образом речь в письме Брика), была напечатана статья Тынянова "Словарь Ленина-полемиста" (см. ПСЯ).
б Далее зачеркнуто: "вне учения о функции - это приводит к складу номенклатуры и к классификации, в которой рядышком отлично уживаются "1-я любовь Пушкина" и "Русская девушка Тургенева" и пр. (Впрочем, об этом я говорю в своей книжке о семантике)".
Тынянов выдвинул здесь неожиданное для филологии понятие литературного факта в, призванное обновить и обострить видение конкретного материала, подлежащего наблюдению, описанию и интерпретации. Подобные явления, представляющие собой реакцию на застой теоретической мысли, хорошо известны в истории научного знания (ср. такую именно трактовку всей "формальной науки": Б. Казанский. Идея исторической поэтики. Р-Й, стр. 7); показательна в этом смысле запись в дневнике Эйхенбаума: "Сегодня вел беседу со своим университетским семинаром. Боролся с канонизацией формального метода. Убеждал не теоретизировать по каждому поводу, а работать над материалом" (ЦГАЛИ, ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 245. - 1 марта 1924 г.). (Ср., впрочем, о теоретической направленности этого обращения к материалу: T. Todorov. La re-naissance de la poetique. - В кн.: Slavic Poetics. Essays in Honour of Kiril Taranovsky. The Hague - Paris, 1973. Ср. о соотношении метода и объекта: Т. Todorov. Poetique. В кн.: О. Ductor, T. Todorov, D. Sperber, M. Safouan, F. Wahl. Qu"est ce que le structuralisme? Paris, 1968. В русском переводе: Структурализм: за и против. Сб. статей. М., «Прогресс», 1975).
в Отметим, впрочем, постановку вопроса об "опознании фактов изучения" у А. П. Скафтымова: "Теперь литературный факт, даже при наличности его непосредственного восприятия, предстоит как нечто искомое и для научного сознания весьма далекое и трудное" ("К вопросу о соотношении теоретического и исторического знания в истории литературы", - Ученые записки Гос. Саратовского университета, т. I, вып. 3. 1923, стр. 56).
"Эмпирическое" понятие литературного факта служило Тынянову отправным пунктом достаточно абстрактной концепции, развитой впоследствии в статье "О литературной эволюции", а также написанных совместно с Р. О. Якобсоном тезисах "Проблемы изучения литературы и языка".
Узловой вопрос о соотношении литературы и не-литературы решается при помощи понятия быта. Быт трактован в статье как сфера порождения некоторых текстов, которые потенциально способны приобретать художественную значимость, в то же время быт - область рудиментарного, автоматизированного искусства. Это понимание (несколько иначе изложенное в статье "О литературной эволюции") не надо смешивать с концепцией литературного быта, выдвигавшейся позднее Эйхенбаумом (см. подробней в комм. к статье "О литературной эволюции"). Однако разного рода трансформации внелитературного в специфически литературное представляли проблему, актуальную для обоих ученых, причем Эйхенбаум учитывал динамичность литературного факта в смысле Тынянова (см.: В. Эйхенбаум. Мой временник. Л., 1929, стр. 55). Совпадение с лефовской "литературой факта" чисто словесное. Отношение Тынянова к Лефу достаточно ясно из шаржированной сценки, опубликованной под названием «Сон» (конец 20-х годов, см.: ТЖЗЛ, стр. 34–36). Приводим набросок, в котором полемика с Лефом поясняет и "Литературный факт", именно - принцип соотносительной ценности «факта» и условности в искусстве:
"Макар Девушкин, "бедный человек", когда хотел выразить восхищение современной ему литературой, писал словами Достоевского: "поучение и документ". Документы появились сейчас в большом числе и конкурируют с художественной литературой, очень успешно. Чем это вызвано и что предсказывает, трудно сказать. Вызвано это, по всей вероятности, сверхнатурализмом читателя и предсказывает, может быть, небывалый спрос на чисто литературную условность. (А не, как думают лефы, полную отмену литературы. Впрочем, каждая партия в литературе отменяет литературу кроме себя). Натурализм зрителя ведет к условности в театре. Почему? Потому что содействует выяснению подлинной природы его, границ с другими искусствами. В основе театра лежит колоссальная условность (Пушкин). В основе литературы также. Собственно говоря, мы замалчиваем основу: человек читает откровенные известия о каких-то чужих и ему по большей части незнакомых лицах и соображения по поводу… Иногда и об авторе. Причем это его вовсе не касается. Такова величайшая условность литературы, имеющей в быту таких родственников, как сплетня, болтовня приятелей" (АК).
С самого начала в противоположении теории литературного факта схоластической филологии определяющим было представление об эволюции литературы. В анкете от 27 июня 1924 г. Тынянов, сообщая о печатании "Литературного факта", так пояснял проблематику работы: "о понятии эволюции в литературе". Он писал далее: "Для меня как историка литературы «формальный» метод важен тем, что дает возможность построить историю литературы (что явно не удалось ни Пыпину, ни Гершензону) как эволюцию форм <…>".
Концепция литературной эволюции, по мысли Тынянова, должна была стать основой будущей научной истории литературы. Начав с отрицания «статических» определений литературы, Тынянов делает попытку дать свое определение, позволяющее в любой точке литературной эволюции идентифицировать данный факт как литературный.
"Литература есть динамическая речевая конструкция" - чтобы уяснить себе эту формулировку (недостаточную эксплицитность своих положений признавал сам Тынянов - см. "Предисловие к АиН" - наст. изд. стр. 396), нелишне проследить за употреблением характерного для него термина "динамика (динамизация, динамический)". Динамика - базовая категория филологического мышления Тынянова, организующая ого суждения всех уровней. Если приведенное определение располагается на высшем уровне, то низший займет утверждение о динамизации слова в стихе. Это явление в предельном выражении Тынянов демонстрировал на примере стихотворных конструкций из однокоренных слов, дающих "ощущение протекания слова, динамизацию его" г ("Ода как ораторский жанр"); вообще, динамизация ведет к специфическим для стиха изменениям значения слова. На других уровнях: герой есть смысловой итог некоторого динамического процесса - движения от начала к концу произведения; фабулу можно представить как статическую схему, но сюжет - динамическая реальность произведения. И всякое литературное произведение есть "развертывающаяся динамическая целостность" д. (Ср. запись от 9 июля 1922 г. в дневнике Эйхенбаума о беседе с Тыняновым: "Сегодня говорили о термине «композиция». Термин изжитой. Он предлагает - «динамика», чтобы избегнуть статического элемента". - ЦГАЛИ, ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 244; ср. ПСЯ, стр. 27–28). Наконец, еще одна модификация динамического - литературная эволюция. Но если, согласно ПСЯ, в понятие протекания или развертывания на уровне конструкции отдельного произведения или тем более слова "вовсе не обязательно вносить временной оттенок" - "динамика может быть взята сама по себе, вне времени, как чистое движение", то на уровне целого литературного ряда динамика понимается Тыняновым во временном, эволюционном аспекте. Ср. прим. 16.
г Ср. об актуализации в поэтическом языке "всех сторон лингвистической системы" в «Тезисах» ПЛК (1929 г.): Пражский лингвистический кружок. М., 1967, стр. 29–32. Ср. также ранее: Г. Винокур. Поэтика. Лингвистика. Социология (методологическая справка). - «Леф», 1923, № 3, стр. 109–110. Идея динамизации слова в стихе, уходящая корнями в раннеопоязовскую проблематику, именно у Тынянова и в вышеупомянутых работах получила выражение, связывающее ее с современной поэтикой.
д О статическом и динамическом в связи с этим определением Тынянова см.: Ю. М. Лотман. О некоторых принципиальных трудностях в структурном описании текста. - В кн.: Труды по знаковым системам, IV. Тарту, 1969; ср. его же. Динамическая модель семиотической системы. М., 1974 (предварительные публикации Проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике Ин-та русского языка, вып. 60).
Тынянов дал два варианта теории литературной эволюции: первый в "Литературном факте", второй (в развитие предыдущего) - в статье "О литературной эволюции". Второй вариант выдвигал существенно новую концепцию, основанную на идее системности, первый сохраняет близость к идеям раннего Опояза. Центральная его часть - схема (4 этапа) автоматизации и деавтоматизации (т. е. поддержания динамизма) конструктивного принципа в процессе литературной эволюции. Двигатель ее мыслится как некое объективное требование художественной новизны (ср. "диалектическое самосоздавание новых форм" у Шкловского), необходимо сопровождающее функционирование искусства. При этом Тынянов подчеркивал возможность эстетически значимого использования «старого» в функции «нового» (как раз этот аспект отражен в предлагавшемся Шкловским названии итоговой книги Тынянова: "Архаисты - новаторы"), но исключил из рассмотрения такие типы искусства, которым известно принципиально иное соотношение «старого» и «нового», чем сложившееся в европейском искусстве XIX и особенно XX в. В этом смысле справедливо полемическое утверждение П. Н. Медведева о том, что на представления Опояза о литературном развитии повлияли скандалы и эпатаж футуристов. П. Медведев подвергал критике самую правомочность употребления термина «эволюция» в смысле Тынянова: "По формалистической концепции между сменяющимися в истории литературы формами нет никакого отношения эволюционного характера, как бы широко мы ни понимали слова «эволюция» и «развитие» <…>. Борьба и смена вовсе но являются принципом эволюции <…>. Для того чтобы обнаружить эволюционную связь, нужно показать нечто совсем другое: нужно показать, что два явления существенно связаны между собой и одно - предшествующее существенно и необходимо определяет другое - последующее. Этого-то как раз Тынянов и не показывает" (П. Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928, стр. 220–221) е. Методологическая критика Медведева влечет за собой сложный вопрос, связанный с явившимися в конце XIX в. в Европе (Ф. Брюнетьер, Ш. Летурно и др.) и в России (Н. И. Кареев, А. Н. Веселовский) попытками применения эволюционной точки зрения к вопросу о происхождении и жизни литературных явлений. Уже академическая традиция, которой противопоставлял себя Опояз, выдвинула понимание эволюции как эволюции форм (см. об этом: В. Н. Перетц. Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914, стр. 30–31 и др., и особенно: его же. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пг., 1922). Работа Тынянова над теорией литературной эволюции шла в двух направлениях осознания самого объекта изучения и уяснения механизма эволюционно-исторического процесса.
е Как известно, книга Медведева отразила взгляды M. M. Бахтина.
В отличие от закрепившегося под влиянием определенных направлений биологии XIX в. представления об эволюции как области закономерностей, плавного и обусловленного перетекания из одного состояния в другое - в противовес резкой и радикальной смене качества, Тынянов вводил такое ее понимание, которое совмещало в себе оба признака (ср. в «Промежутке»: "взрыв, планомерно проведенный"). Двигателем эволюции оказывались смещение, сдвиг, мутация, скачок. Два звена эволюционной цепи могли не быть существенно, а тем более необходимо (ср. Медведев) связаны; новое качество могло являться сбоку. Интересная параллель тыняновскому пониманию - в работах Е. Д. Поливанова, где настойчиво обсуждался вопрос о постепенном (градуальном) и внезапном (мутационном, или революционном) характере изменений в языке (Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., 1968, стр. 90). Отметим характерную оговорку в одной из статей - именуя некие историко-фонетические процессы постепенными (немутационными), Поливанов делает к этим словам сноску: "или, как иногда говорят, эволюционными" (указ. соч., стр. 112). Следом того, что новое понимание эволюции еще не устоялось, явилось двоящееся употребление понятия в статье Тынянова - ср. на стр. 256: "не планомерная эволюция, а скачок".
Таким образом, источник представлений Тынянова об эволюции синкретичен, что будет видно и в дальнейшей его работе над проблемой, где, впрочем, получат преобладание источники лингвистические.
По Тынянову, новый литературный признак возникает "на основе «случайных» результатов и «случайных» выпадов, ошибок", т. е. нарушений художественной нормы. Напрашивается аналогия с методом "проб и ошибок" с последующим закреплением мутаций в биологической эволюции ж; возникший феномен есть, таким образом, своеобразный литературный мутант, который, конечно, не обязан отклоняться только в сторону, предначертанную теорией, а может явить собою любое новое неожиданное литературное качество (литературе "закажут Индию, а она откроет Америку", - "Литературное сегодня").
ж Некоторые рабочие записи Тынянова дают основания для подобных параллелей: "жанр как ген" (АК). Аналогия с актуальными понятиями биологической науки 20-х годов могли быть результатом общения с Л. А. Зильбером (1894–1966), которого связывала с Тыняновым многолетняя дружба (Зильберу посвящена статья "Архаисты и Пушкин"; см. также прим. 23 к ст. "О литературной эволюции"). Биологические аналогии в суждениях об эволюции литературы неоднократно встречаются у В. Шкловского. Ср. еще у Н. Бурлюка: "Словесная жизнь тождественна естественной, в ней также царят положения вроде дарвиновских и де-фризовских" ("Футуристы", 1914, № 1–2, стр. 84). Сообщение Якобсона в письме к Шкловскому от 26 февраля 1929 г.: "Прочел с увлечением книгу Берга о "Номогенезе"" - может служить указанием на одну из возможных тем его бесед с Тыняновым в Праге (см. прим. к "Проблемам изучения литературы и языка").
С точки зрения современного искусствоведения, ограничения, которые должны быть сделаны по отношению к построениям Тынянова, очевидны: его выводы, обобщающие эстетический опыт преимущественно двух последних столетий, неприложимы к более обширной области художественных явлений, в частности к фольклору и средневековому искусству. Ссылаясь на "Литературный факт", Д. С. Лихачев отмечает: "<…> Динамические элементы литературы, которые так подчеркивал Ю. Тынянов, играли в средневековой литературе заметно меньшую роль, чем в литературе новой" (Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971, стр. 111–113; ср. его же. Литературный этикет русского средневековья. - В кн.: Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa. 1961). Бесспорным же для современной науки представляется сформулированное в статье условие корректного подхода к историко-литературному объекту: построение таких исторических проекций рассматриваемого текста, которые в максимально возможной степени компенсировали бы временную (и смысловую, культурную) его удаленность от наблюдателя. Кажущееся очень простым, это требование получило у Тынянова всю полноту методологической содержательности и сохраняет ее до сих пор, предупреждая против характерного для гуманитарного знания смешения оценки и описания, "апперцептивного багажа" исследователя и культурного языка минувшей эпохи. Ср.: Р. Якобсон. О художественном реализме (1921). - В кн.: Michigan Slavic Materials. Readings in Russian Poetics. № 2. Ann Arbor, 1962. Ср. также прим. 13. Многократно и многосторонне отражена была позднейшей научной мыслью (поэтикой, культурологией) идея текучести границ между литературой и не-литературой.
Темы, затронутые в статье, активно дискутируются в науке спустя пятьдесят лет после ее написания. Так, положения об автоматизации и деавтоматизации разработаны в настоящее время с точки зрения теории информации. Вопрос об определении литературы, остро сформулированный Тыняновым, несомненно, оказал влияние на позднейшие лингвистические и семиотические исследования. Ср., например, утверждение: "Для любого текста существует вероятность превращения в литературу" ("Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала". - В сб.: Структурно-типологические исследования. М., 1962, стр. 154); ср. А. А. Хилл. Программа определения понятия «литература». - В сб.: Семиотика и искусствометрия. М., 1972. См. особенно J. Mukarovsky. Esteticka funkce, norma a hodnota jako socialni fakty (1936). - В его кн.: Studie z estetiky. , 1971 (перевод в кн.: Труды по знаковым системам, VII. Тарту, 1975). Ю. М. Лотман. О содержании и структуре понятия "художественная литература". - В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973. Ср. также: Т. Todorov. The Place of Style in Structure of the Text. - In: Literary Style. A Symposium. London and New York. 1971, p. 31–32.
Однако некоторые идеи Тынянова не получили развития в позднейшей филологии. Таково введенное в статье "Литературный факт" понятие "литературной личности", противопоставленное "индивидуальности литератора", "личности творца" - в том самом отношении, в котором эволюция и смена литературных явлений противопоставлена у него "психологическому генезису" явления (см. также статью "Тютчев и Гейне").
К этой же проблеме подходил и Б. В. Томашевский, указавший на эпохи, когда биография выступает вперед - причем в разных аспектах (одной эпохе поэт, писатель нужен как "хороший человек", другой - как "плохой"). Рассуждения Томашевского о "поэтах с биографией и без оной - таких, у которых мы не найдем никакого поэтического образа автора", - это, в сущности, иными словами и более пространно и детально, чем у Тынянова, выраженная идея "литературной личности" (см.: Б. Томашевский. Литература и биография. - "Книга и революция", 1923, № 4 (28), стр. 8. Разбор "лирической биографии" Блока близок идеям Тынянова, выраженным двумя годами ранее в статье "Блок", - см. в наст. изд.). Не оговаривая специально этих подразделений, Тынянов их подразумевает. В статье "О литературной эволюции" (пункт 11) они введены уже прямо - по-видимому, с учетом работы Томашевского. "Литературная личность" в его понимании - это, в частности, та условная биография (портрет, жизненные события и проч.), которая воссоздается читателем по стихам поэта, - однако лишь в том случае, если есть авторская установка на эту личность, неважно, намеренная или непреднамеренная. Отсюда среди прочего следует, что старая традиция жизнеописаний вдохновенных поэтов должна быть рассмотрена в одних случаях как конструирование биографии "литературной личности", а не реального лица, в других же - как искусственное построение легенды о писателе там, где установки на нее нет в его творчестве з. Совпадение этой биографии с реальной может быть рассматриваемо как частный случай.
з С этим связывалось и раннеопоязовское понимание места биографии в историко-литературных изучениях. Ср. в одной из лекций Б. Эйхенбаума 1918 г. ("Вопросы литературы", 1973, № 10, стр. 65).
В отличие от "лирического героя", который мог, по-видимому, связываться и с представлением об одном каком-нибудь тексте, "литературная личность" категория более широкая, преимущественно межтекстовая - относящаяся ко многим или ко всем текстам писателя. С большой определенностью очерченная Тыняновым, она осталась им, однако, не разработанной, и позднее научная традиция не двинулась далее самого общего признания ее плодотворности. (Ср. в ином плане - концепцию "образа автора" у В. В. Виноградова.)
Категория "литературной личности" важна была Тынянову как частный аспект его теории литературной эволюции. Поэтому он мало отдал внимания разработке вопроса о биографии писателя и границах ее историко-литературного изучения, остановившись на первом, наиболее важном для научной ситуации тех лет этапе решительного отделения биографии от литературы, и работы его о поэтах-современниках стали практическим приложением этих представлений (ср. реакцию критики, воспитанной на полном слиянии рассуждений о жизни, личности поэта и о его поэзии, - см. прим. к статье "Блок"). Важным свидетельством намерения Тынянова возвратиться к проблеме биографии является письмо его к Шкловскому от 5 марта 1929 г.: "Необходимо осознать биографию, чтобы она впряглась в историю литературы, а не бежала, как жеребенок, рядом. «Люди» в литературе - это циклизация вокруг имени - героя; и применение приемов на других отраслях, проба их, прежде чем пустить в литературу; и нет «единства» и «цельности», а есть система отношений к разным деятельностям, причем изменение одного типа отношений, напр. в области полит[ической] деятельности, может быть комбинаторно связано с другим типом, скажем, отношением к языку или литературе (Грибоедов, Пушкин). Вообще, личность не резервуар с эманациями в виде литературы и т. п., а поперечный разрез деятельностей, с комбинаторной эволюцией рядов. Я еще не додумал, буду думать" (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 724). По-видимому, поиски были направлены в русло такого понимания биографии как предмета изучения, которое устанавливало бы некий изоморфизм между эволюцией литературы и эволюцией личности писателя (""люди" в литературе"). Личность (и биография) художника, таким образом, мыслилась не психологически и не психоаналитически, а в духе той концепции системной соотнесенности элементов, которая уже была выдвинута к этому времени в статье "О литературной эволюции". "Связь «жизни» и «творчества» предстояла как сложнейшая и не решаемая в плоскости чисто фактологической проблема. В иерархии исследований, намечавшихся Тыняновым в конце 20-х годов и оставшихся неосуществленными, это была проблема того же порядка, что и взаимодействие литературного ряда и "дальнейших рядов" (о последнем см. особенно "Проблемы изучения литературы и языка").
Отметим здесь как, вероятно, первую и до настоящего времени остававшуюся неизвестной попытку Тынянова подойти к установлению связи «жизни» и «творчества» - его студенческий реферат о "Каменном госте", где итогом рассмотрения трагедии становится констатация ее автобиографического генезиса с жесткой причинной мотивировкой: "Но почему такою сдержанною силою пережитого полны спокойные стихи драмы? Потому что драма Дон Гуана это драма Пушкина. Вспомним, что значил для него 1830 год, летом которого был написан "Каменный гость" <…> И оба они были так же одиноки, так же неподходящи к окружающей среде. Оба они поэты, оба жадные до жизни, необузданные люди" (ИРЛИ, ф. С. А. Венгерова). Примечательно, что под этим же углом зрения трагедия была рассмотрена через тридцать с лишним лет в работе А. А. Ахматовой ""Каменный гость" Пушкина". Небезынтересны некоторые прямые совпадения ее наблюдений с юношескими штудиями Тынянова (ср., напр.: "Внимательно читая "Каменного гостя", мы делаем неожиданное открытие: "Дон Гуан - поэт"". - Пушкин. Исследования и материалы, т. II, M.-Л., 1958, стр. 187). Второй попыткой этого рода можно считать незаконченную монографию "Тютчев и Гейне", где некоторые произведения обоих поэтов возводятся к эпизодам их биографии. Далее Тынянов резко отходит от биографически-генетического подхода (указав в статье "Тютчев и Гейне" лишь в общем виде границы научного его применения), сосредоточившись на проблемах эволюции. С середины двадцатых годов уже не в науке при современном ее состоянии, а в литературе полагает Тынянов место всем притязаниям обосновать творчество биографией и историей ("Смерть Вазир-Мухтара"). Единственным в своем роде опытом была статья 1928 г. "О Хлебникове", где выстроена некая связь между поэтическим миром и «судьбой». Здесь же наиболее резко высказано предостережение: "Не нужно отделываться от человека его биографией" (ПСЯ, стр. 299). В дальнейшем стремление «впрячь» биографию в историю литературы осталось нереализованным: в статьях "Пушкин и Кюхельбекер", "Безыменная любовь" (см. ПиЕС) проблема биографии решается Тыняновым в традиционном источниковедческом смысле.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Февраль, № 1 Филология 2014
любовь муссаевна ахриева
начальник редакционно-издательского отдела Информационно-издательского управления, Московский государственный областной университет (Москва, Российская Федерация) l_ahrieva@mail. ru
концепция жанра в статьях ю. н. Тынянова «литературный факт»
и «о литературной эволюции»
Предпринята попытка проследить взгляды Ю. Н. Тынянова на проблему жанра в его теоретических работах 1920-х годов. Проанализированы термин «динамика», принцип смещения жанров на примере поэмы, повести, рассказа, величина произведения как признак жанра.
Ключевые слова: Тынянов, жанр, система, динамический, литературная эволюция, смещение, величина
Известно, что жанр - один из значимых аспектов теории литературы. В статьях «Литературный факт» (1924) и «О литературной эволюции» (1927) Ю. Н. Тынянов предпринимает попытку дать ему определение; выявляет такие специфические свойства, как изменчивость, смещение и рассматривает их на примерах различных жанров; анализирует величину произведения как жанровую характеристику. Несомненный интерес для нас представляют размышления ученого о романе, повести, рассказе - жанрах, в которых творил он сам. Понимание им идей о динамизации как основном принципе смещения жанров является одним из способов передачи исторических событий в его произведениях и служит методологической основой для рассмотрения творчества.
Ю. Н. Тынянов исследовал жанр в свете разработки им идеи литературной эволюции как естественного процесса сменяемости литературных явлений. Эта проблема, главенствующая в статье «Литературный факт» и развитая в работе «О литературной эволюции», продолжала занимать Тынянова в последующие годы, став магистральной в его теоретических исследованиях 1920-х годов.
Подход Тынянова к проблеме жанра Л. Я. Гинзбург именует динамическим , основанным на представлении ученого о непрерывных эволюционных процессах. «Динамика -базовая категория филологического мышления Тынянова, организующая его суждения всех уровней. Если приведенное определение располагается на высшем уровне, то низший займет утверждение о динамизации слова в стихе. <.. > На других уровнях: герой есть смысловой итог некоторого динамического процесса - движения от начала к концу произведения; фабулу можно представить как статическую схему, но сюжет -динамическая реальность произведения» . Также этот ряд продолжает литературная эволюция как трансформация динамического. Для Тынянова термин «динамика» обозначает
© Ахриева Л. М., 2014
движение и, главное, происходящие при этом изменения , смещения. В дневниковой записи Б. Эйхенбаум вспоминает беседу с Тыняновым: «Он (Тынянов. - Л. А.) предлагает - „динамика”, чтобы избегнуть статического элемента» .
Вопрос о литературных жанрах Тынянов начинает рассматривать с определения жанра. Он отмечает, что сделать это трудно по причине того, что жанр постоянно видоизменяется «эволюционирующим литературным фактом» . Причем это «не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение» .
Ученый исследует это явление на примере поэмы и сразу отмечает, что дать ей единое «статическое» определение сложно, и русская литература в этом убеждает. Так, «революционная» суть поэмы1 А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» в том, «что [это] “не-поэма” (то же и с “Кавказским пленником”); претендентом на место героической “поэмы” оказывалась легкая “сказка” XVIII века, однако за эту свою легкость не извиняющаяся; критика почувствовала, что это какой-то выпад из системы. На самом деле это. смещение системы» .
Далее Тынянов сужает область рассмотрения признаков жанра и ставит вопрос о том, «как колеблется понятие жанра» в случае отрывка, фрагмента. Свои рассуждения он начинает с того, что «отрывок поэмы может ощущаться как отрывок поэмы, стало быть, как поэма; но он может ощущаться и как отрывок, т. е. фрагмент может быть осознан как жанр» . Подобную понятийную омонимию автор объясняет тем, что это «ощущение жанра» зависит не от качеств воспринимающего, а от «преобладания или вообще наличия того или иного жанра: в XVIII веке отрывок будет фрагментом, во время Пушкина - поэмой» . Важно и то, что в зависимости от определения жанра реализуются функции всех стилистических средств и приемов: в поэме они будут иными, в отличие от отрывка.
Концепция жанра в статьях Ю. Н. Тынянова «Литературный факт» и «О литературной эволюции»
В статье «О литературной эволюции» Тынянов переходит к роману, который кажется единым цельным жанром, развивающимся на протяжении веков. Но роман оказывается «переменным» жанром с меняющимся в литературном процессе разных эпох материалом и модифицирующимся способом включения в литературу внелитературных речевых материалов. Отсюда следует вывод, что признаки жанра эволюционируют.
Далее ученый обращается к анализу рассказа и повести, сравнивая новые подходы к их определению с традицией первой половины XIX века, когда рассказ, повесть в 20-40-е годы определялись другими признаками, в отличие от современного критику литературного процесса. Тынянов констатирует, что, например, в XIX столетии слово «рассказ» часто употреблялось в значении «исполнение», «сказ» .
Из исследования Ю. Н. Тыняновым жанровых эволюционных процессов следует, что благодаря историческим смещениям в литературном процессе жанр как система меняется, «колеблется». Это предполагает переход от одного явления в жанре к другому и снова возврат к прежним признакам, как при движении маятника: «В эпоху разложения какого-нибудь жанра - он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление» . Иными словами, жанр формируется в одних системах и убывает, перестав выполнять свои функции, в другие системы. Таким образом, представить жанр в виде статической системы невозможно, так как новый жанр возникает в результате соприкосновения с традиционным жанром. По мнению ученого, это происходит потому, что новое явление сменяет старое, занимает его место и в то же время является не развитием старого, а его заместителем. Если этого замещения нет, то жанр распадается.
Но жанр как система, считает Тынянов, не изменяется полностью, так как в нем сохраняется что-то достаточное для того, чтобы, например, «не-поэма» «Руслан и Людмила» была поэмой. И это заключается не в основных, «крупных» отличительных чертах жанра, а во «второстепенных». Они «как бы сами собою подразумеваются и как будто жанра вовсе не характеризуют» . В качестве примера Тынянов приводит величину произведения. По его мнению, это та отличительная черта, которая, например, в случае с поэмой необходима для сохранения жанра. Исследователь М. В. Умнова отмечает, что принцип выявления при анализе не основных (аксиологически окрашенных), а второстепенных (аксиологически безразличных) признаков, характеризующих систему (литературу, жанр и т. д.) , был выдвинут ученым ранее в работе 1924 года «Проблема стихотворного языка»:
«Конструктивный принцип познается не в максимуме условий, дающих его, а в минимуме» . Так как очевидно, что эти минимальные условия связаны с данной конструкцией и в них следует искать ответ на вопрос о специфическом характере конструкции.
Ориентация на поиск условий реализации конструкции выражена в том, что для Тынянова «величина» прежде всего понятие «энергетическое» . Ученый считает, что литературоведы называют большой формой ту, на создание которой необходимо больше энергии. Но большую форму можно дать в малом стихотворном объеме: «Пространственно “большая форма” бывает результатом энергетической [работы]» . Но и большая форма в некоторые периоды литературного процесса определяет закономерность конструкции. Роман отличается от новеллы тем, что он - большая форма. Поэма от стихотворения - тем же. Таким образом, Тынянов приходит к выводу, что большая форма требует иных сил, чем малая, в ней каждая деталь, стилистический прием, в зависимости от величины конструкции, имеет разную функцию.
Исследование вопроса об идентификации жанра произведения по его величине ученый продолжает в статье «О литературной эволюции», где вновь говорит о значении этого «формального элемента», называя его второстепенным результативным признаком. Иными словами, часто наименования рассказ, повесть, роман соответствуют «определению количества печатных листов» . Это доказывает не столько «автоматизованность» жанров для определенной литературной системы, а то, что жанры устанавливаются по другим признакам. Величина произведения, его речевое пространство - важный признак. Если произведение изолировано от системы, то жанр сложно определить, так как то, что именовали «одою в 20-е годы XIX века или, наконец, Фет, называлось одою не по тем признакам, что во время Ломоносова» . Таким образом, автор приходит к выводу, что изучение жанров невозможно вне признаков и характеристик жанровой системы, «с которой они соотносятся» . Так, исторический роман Л. Н. Толстого не сопоставим с историческим романом М. Н. Загоскина, так как соотносится с современной ему прозой. Автор заключает, что без сопоставления литературных явлений невозможно и их рассмотрение.
Исследуя проблему жанра в работах 1920-х годов, Ю. Н. Тынянов приходит к следующим выводам. Жанр как система не статичен, он склонен к изменению, смещению, что осложняет формулировку определения того или иного жанра. Понятие величины он называет одним из второстепенных признаков жанра, но достаточным для единства жанра в литературном про-
Л. М. Ахриева
цессе. Если сохраняется принцип конструкции изолированно от современной ему эпохи, вне (например, величина), то сохраняется «ощуще- литературного процесса невозможно, так как ние» жанра. По мнению ученого, изучать жанр жанр развивается и эволюционирует.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Позже в статье 1927 года «О литературной эволюции» Ю. Н. Тынянов поясняет, что вопрос о жанре поэмы А.С. Пушкина, очень сложный для критики 20-х годов, возник потому, что «пушкинский жанр явился комбинированным, смешанным, новым, без готового “названия”. Чем острее расхождения с тем или иным литературным рядом, тем более подчеркивается именно та система, с которой есть расхождение, дифференция» .
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Берестова О. Г. Статика и динамика в семантике состояния // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. «Русская филология». 2012. № 6. С. 7-11.
2. Гинзбург Л. Я. Тынянов - литературовед // Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 446-466.
3. Тоддес Е. А., Чудаков А. П., Чудакова М. О. Комментарии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 397-572.
4. Т ы н я н о в Ю. Н. Литературный факт; О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 255-281.
5. Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. 139 с.
6. Умнова М. В. Авангардные установки в теории литературы и критике ОПОЯЗа. М.: Прогресс-Традиция, 2013. 176 с.
Akhrieva L. М., Moscow State Regional University (Moscow, Russian Federation)
CONCEPT OF GENRE IN Y. TYNYANOV’S ARTICLES “LITERARY FACT”
AND “ON LITERARY EVOLUTION”
The author attempts to reveal Y. Tynyanov’s views on the problem of genre expressed in his theoretical studies of 1920s. Particular attention is paid to the term dynamics, as well as to the principle of genres’ shift, which is investigated on the example of a poem, a story, a short story. Besides, the author studies the size of a literary work considering it a sign of genre.
Key words: Tynyanov, genre, system, dynamic, literary evolution, shift, size
1. Berestova O. G. Statics and Dynamics in the Semantics of the State . Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. "Russkayafilologiya" . 2012. № 6. P. 7-11.
2. Ginzburg L. Ya. Tynyanov, Expert in Literature . Ginzburg L. Ya. Zapisnye knizhki. Vospomi-naniya. Esse . St. Petersburg, Iskusstvo-SPB Publ., 2002. P. 446-466.
3. Toddes E. A., ChudakovA. P., Chudakova M. O. ^mments . Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino . Moscow, Nauka Publ., 1977. P. 397-572.
4. Tynyanov Yu. N. Literary F act; On Literary Evolution . Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino . Moscow, Nauka Publ., 1977. P. 255-281.
5. Tynyanov Yu. N. Problema stikhotvornogo yazyka . Leningrad, 1924. 139 p.
6. Umnova M. V Avangardnye ustanovki v teorii literatury i kritike OPOYAZa . Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 2013. 176 p.