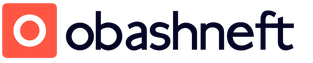Кто из писателей выступил против пастернака. Я убийца и злодей? И так и было все
Позорное событие литературной и общественной жизни страны второй половины пятидесятых годов было связано с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В него оказался втянутым и Борис Слуцкий - трехминутное выступление против Пастернака стало трагедией Слуцкого до конца его дней.
Отношение к Б. Л. Пастернаку в советское время всегда было настороженным. Особое беспокойство партийно-литературного руководства в 1946 году вызвал растущий интерес к Пастернаку на Западе, тогда имя поэта впервые было упомянуто среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Пока это еще не было связано с романом: писатель начал работать над ним в конце 1945 года. Скандальный характер события приняли в ноябре 1957 года, после выхода романа в Милане в переводе на итальянский. (В мае - июне следующего года книга вышла во Франции, Англии, США и Германии.) Чашу терпения идеологических бонз переполнило присуждение Борису Леонидовичу Пастернаку Нобелевской премии «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы» (23 октября 1958 года). Ответ Пастернака Нобелевскому комитету: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен» - оказался последней каплей.
Пастернак писал роман, не таясь. Готовые главы читал близким людям, посылал отрывки сестрам в Англию (с просьбой никоим образом не публиковать). В январе 1956 года передал рукопись журналу «Новый мир», но вскоре стало ясно, что журнал никогда не опубликует романа. Через полгода Пастернак заключил договор на издание «Доктора Живаго» в Италии с коммунистом-издателем Фельтринелли. Этот шаг поэта стал известен Москве. Неожиданно в январе 1957 года договор на издание «Доктора Живаго» предложил Гослитиздат. Договор был подписан. Обнадеженный возможностью появления романа в России, Пастернак обратился к Фельтринелли с просьбой задержать публикацию до выхода его в Москве.
Создавая роман, Пастернак не собирался в какой-либо мере придать ему антисоветскую направленность. Основная тема романа заявлена как «противопоставление языческого Рима (читай: Сталинской Москвы) - христианству, рабства - свободе, народов и вождей - личности».
Издание романа было связано с риском, и Пастернак понимал это. Еще в 1945 году, задумывая «Доктора Живаго», Пастернак писал: «Я почувствовал, что только мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику».
Отсутствие в романе прямых антисоветских пассажей все же не остановило власти перед тем, чтобы воспрепятствовать его изданию. В ЦК сознавали опасность романа, понимали, насколько несовместимы провозглашенные в нем общечеловеческие ценности с господствующей идеологией: выход романа в свет мог пробить серьезную брешь в плотном идеологическом заборе. Была дана команда ни в коем случае не публиковать роман. Договоры на издание в России оказались фикцией.
В сентябре 1958 года, когда стало известно о возможности присуждения Пастернаку Нобелевской премии, рассматривался план избежать скандала. Предполагалось издать «Доктора Живаго» в Москве малым тиражом с ограниченным сообщением об этом в печати. Но план этот отвергли и предпочли развернуть широкую политическую кампанию дискредитации автора и романа. Было предусмотрено подключение общественности к бездумному шельмованию в духе тридцатых годов. Времени на подготовку и осуществление плана было мало.
На 27 октября было назначено расширенное заседание руководства союзных и московской писательских организаций. 25 октября «Литературка» опубликовала отзыв редакции «Нового мира», послуживший основанием для отказа от издания романа, и редакционную статью «Провокационная вылазка международной реакции». В тот же день в «Правде» появилась злобная статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».
В полном согласии с этими статьями намечалось обсуждение вопроса: «О действиях члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя».
Пастернаку послали приглашение. Больной, он на заседание не поехал, но послал объяснительную записку. Поэт просил товарищей не считать «мое отсутствие знаком невнимания». Он напоминал, что «в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий», что роман сначала был отдан в наши издательства в «период общего смягчения литературных условий», когда существовала надежда на публикацию. «На моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью… Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит». Далее Пастернак выражал согласие денежную часть премии внести в фонд Совета Мира, не ехать в Стокгольм за ее получением или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей.
Записку Пастернака расценили как «возмутительную наглость и цинизм». Единодушно поддержали постановление президиума о лишении Пастернака звания советского писателя и об исключении его из числа членов Союза писателей. В те же дни в стране проходили митинги и собрания, осуждавшие великого поэта и его роман.
Против кого было направлено все это безумное, позорное действо? Против романа? Нет, о нем забыли, его как бы и не было. Против Нобелевского комитета и премии? Нет: только против самого писателя и его поведения. Его несгибаемость перед властью, его гордая позиция - вот что больше всего не только злило, но и вызывало страх. Боялись заразительного примера недопустимого неподчинения.
Решением об исключении из Союза писателей завершался первый акт трагедии.
На 31 октября было назначено общее собрание московских писателей. По советской традиции решение президиума должны были одобрить все писатели. За два дня до этого на пленуме ЦК комсомола секретарь В. Е. Семичастный (будущий председатель КГБ СССР) сравнил Пастернака со свиньей, которая «никогда не кушает там, где гадит», и пожелал, чтобы отъезд Пастернака за границу освежил воздух.
Мероприятие должно было пройти гладко, без эксцессов. Началась идеологическая обработка будущих участников, и главный упор был сделан на тех, чье участие повысило бы авторитетность собрания. Стали вызывать в ЦК и в парткомы писателей известных, чей творческий авторитет и моральная репутация не были подмочены соглашательством. Сдались Твардовский, С. С. Смирнов, Вера Панова, Николай Чуковский. Другим «известным» (Маркову, С. Михалкову, Прокофьеву, Соболеву, Антонову и многим другим) не пришлось сдаваться: они были «добровольцами».
В числе других вспомнили о Борисе Слуцком. После письма И. Г. Эренбурга в издававшейся миллионным тиражом «Литературке», полемике вокруг этого письма и читательского успеха первой книги «Память», Слуцкий стал заметной фигурой и его имя было на слуху. Биография Слуцкого соответствовала «критериям» - участник Великой Отечественной войны, раненный на фронте, поэт, чьи антисталинские стихи были известны широкому читателю, «человек безупречной этической репутации» (Евг. Евтушенко), писатель, пробившийся в литературу через рогатки цензуры, несмотря на сопротивление именно тех, кто сейчас клеймил «отступничество» Пастернака. В ЦК знали, что «известный советский поэт Слуцкий» слыл в обществе самым значительным антисоветским поэтом. «Разгадка этого парадокса, - пишет Олег Хлебников, - только в том, что, не будучи врагом советской власти и электрификации всей страны, Слуцкий писал и о том и о другом правду - так же как о войне, о довоенном терроре, о сталинизме вообще, о послевоенном государственном антисемитизме…» Много стихов Слуцкого ходило по рукам в списках. Некоторые из них попадали за границу и публиковались в сборниках советской неподцензурной поэзии. Привлечение «советского - антисоветского» поэта рассматривалось как одна из главных задач идеологической подготовки собрания: участие такого человека позволяло руководству говорить: «Видите, против Пастернака выступает не только Софронов, но и Слуцкий».
Слуцкого, члена партии, партком обязал уговорить беспартийного Леонида Мартынова обрушиться на Пастернака. Об этом вспоминает С. Липкин - но из его воспоминаний получается, будто бы Мартынов «уговорил» Слуцкого. «Кандидатура Мартынова, - пишет Семен Липкин, - нравилась парткому потому, что Мартынов был беспартийным, талантливым и негосударственным. Было известно, что Пастернак его ценил. Мартынов нехотя согласился, но за полчаса до начала собрания сказал Слуцкому: “А почему вы не берете слово? Я выступлю только в том случае, если выступите вы”. Растерявшись, Слуцкий повел Мартынова в партком. Секретарь парткома (забыл его фамилию) обратился к Слуцкому: “В самом деле, почему тебе не выступить? Леонид Николаевич прав”. Слуцкий вынужден был согласиться. Все это он мне рассказывал зло, злясь, как я думаю, на себя. Но и я не был расположен к добродушной беседе». Не подвергаем сомнению то, что Слуцкий так именно и говорил С. Липкину, но известным фактам это противоречит. Во всяком случае, не «за полчаса» до начала собрания решал Слуцкий вопрос - выступить или уклониться.
Заинтересованность руководства в привлечении Слуцкого была так же велика, как и понимание того, что «такого» трудно будет уломать. Последовали вызов в ЦК, беседа у Поликарпова, вызовы в партком.
По свидетельству В. Кардина, Слуцкому сказали, что «во исполнение долга коммуниста он обязан заклеймить Пастернака на собрании московских писателей. Таково партийное задание…». Кардин это запомнил со слов Слуцкого.
Слуцкий оказался в партийном капкане, зажатым между долгом и совестью, между обязанностью и честью.
Долг и обязанность, как их тогда понимал поэт, взяли верх. Об этом он писал в стихах:
Музыка далеких сфер, противоречивые профессии. Членом партии, гражданином СССР, подданным поэзии был я. Трудно было быть. Все же был. За страх, за совесть. Кое-что хотелось бы забыть. Кое-что запомнить стоит. Долг, как волк, меня хватал. (Разные долги, несовпадающие.) Я как Волга, в пять морей впадающая, сбился с толку. Высох и устал .
Слуцкий был принципиальным противником предварительной публикации произведений за рубежом: он считал, что писатель обязан печататься на родине. Так думали и его друзья-литераторы. В «Подённых записях» Самойлова за 1960 год (с. 301) есть такая пометка: «Вознесенский сказал мне, что английский журналист Маршак опубликовал в Лондоне мои стихи. Какова мораль западного журналиста! Они не понимают, что мы не желаем ссориться с родиной. Все, что нам не нравится, - внутреннее дело. Никому не дозволено в это вмешиваться!» У Николая Глазкова была целая баллада под названием «Беседа с чертом», в которой черт соблазнял поэта славой и богатством, полученными благодаря зарубежным публикациям. Стихотворение кончалось красноречиво: «Отойди от меня, сатана!» Были и менее строгие суждения. «У нас, - вспоминает Нина Королева, имея в виду своих ленинградских товарищей, - было свое понимание проблемы “поэт и власть”: государство печатает и награждает того, кто прославляет и пропагандирует его и партийную политику… Факт появления “Доктора Живаго” за границей мы считали жестом смелым и вызывающим, на который поэт имеет право, но и государство имеет право его не одобрить. А руководство московской писательской организации мы считали насквозь продавшимся советской власти и партии за блага и подачки».
Самому Слуцкому никогда не приходило в голову передать за границу для опубликования свои «Записки о войне». Эта «деловая проза» - острая правда о войне - пошла бы нарасхват у зарубежных издательств. То же относится и к сотням стихов, лежавших в столе поэта, не имевших шансов быть напечатанными на родине. Стихи Слуцкого печатали за границей, но не по его воле. Сам он свои стихи туда не посылал. «Межиров в самый расцвет застоя, - вспоминает Олег Хлебников, - показал мне вышедшую в Мюнхене антологию советской неподцензурной поэзии, в которой было напечатано много неизвестных тогда российским читателям стихотворений Слуцкого. Но Слуцкий и тут оказался верен себе - он не передавал свои рукописи за границу. Это сделал кто-то из его поклонников: стихи Слуцкого тогда расходились в списках. А немцы поступили корректно по отношению к поэту: напечатали его большую подборку, не указав имени автора. Более того: подборка была разбита на две части и над обеими значилось “Аноним”. Но для тех, кто понимает, “фирменная” узнаваемая интонация Слуцкого говорила об авторстве красноречивее подписи. К счастью, литературоведы в штатском не слишком квалифицированны, а уж к поэзии точно глухи».
Эта принципиальная позиция Слуцкого, несомненно, оказалась той щелочкой, сквозь которую смогли добраться до него и уговорить выступить. Успех «обработчиков» стал возможен также благодаря глубокой партийности Слуцкого. Об этом говорят многие близко знавшие и дружившие с ним.
«Член КПСС Слуцкий, - писал Владимир Корнилов, - долго, почти всю свою жизнь, продолжал верить в партию, вернее, упорно заставлял себя в нее верить…» Верность «строительной программе» и партийный долг, а отнюдь не трусость или конъюнктурные соображения заставили Слуцкого поддаться на уговоры и требования парткома.
Наум Коржавин: «Я… тогда нисколько, ни на одну минуту не усомнился в честности и порядочности Слуцкого и поэтому отнесся к его проступку не с возмущением, а иронически - понимал, что к этому его привел не расчет, а честно и буквально исповедуемый принцип партийности, от следования которому никаких благ он никогда не получал».
B. Кардин: «Обстоятельно рассказывая мне о собрании, Слуцкий не искал оправдания… хотел понять, как с ним стряслось такое. В поисках объяснения он сказал: - Сработал механизм партийной дисциплины…»
C. Апт: «Почему он, поэт, присоединился тогда к хору хулителей? Скорее всего, он сделал это “в порядке партийной дисциплины”, думаю, что ему в ультимативной форме предложили выступить… Думаю, что он и в самом деле был ошеломлен тем, что Пастернак напечатал свой роман за границей… Вполне допускаю, что и в присуждении Пастернаку Нобелевской премии Слуцкий мог увидеть акцию политическую…»
Когда я впервые после случившегося приехал в Москву и встретился с Борисом, я рискнул его спросить. (Мне было тяжело напоминать о случившемся. Вообще, близкие старались не говорить об этой истории, понимая, как он сам трагически переживает ее. Обходили молчанием, не сговариваясь.) Но я не мог не спросить. Не помню точно моего вопроса. В нем не было одобрительного подтекста, но и не начинался он со слов «Как ты мог?».
Борис ссылался на сильный нажим, вызов в ЦК. Он был, что называется, прижат к стенке положением секретаря партбюро (или члена партбюро - не помню точно) поэтической секции московской писательской организации. Положение обязывало. Смысл его оправданий сводился к тому, что ему оставалось только «выступить как можно менее неприлично». Говорил, сколько пережил мучительных часов в поисках формы и содержания своего выступления. Но колебаний «выступить или воздержаться» я в его словах не почувствовал.
Разговор наш он закончил прямо и однозначно: «Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать». Я понял эти слова как выражение поддержки «оттепели»; больше к этой теме мы никогда не возвращались (П. Г.).
Между тем здесь-то и заключалось главное. Борис Пастернак был враг «оттепели»; Борис Слуцкий был ее убежденным певцом.
Пастернак в разговоре с Ольгой Ивинской в 1956 году высказал свое отношение к «оттепели»: «Так долго над нами царствовал безумец и убийца, а теперь - дурак и свинья; убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на свое отчаянное мракобесие; теперь нас захватило царство посредственностей». Старший сын записал реплику Пастернака осенью 1959 года: «Раньше расстреливали, лилась кровь и слезы, но публично снимать штаны было все-таки не принято».
Слуцкий был тем, кому «оттепель» дала голос, да он и сам пытался стать голосом «оттепели». Он сформулировал все те положения, которые в силу многих причин не мог сформулировать Никита Хрущев. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», или «Перекур объявлен у штурмовавших небо», или «Вы решаете судьбу людей? Спрашиваете про детей, узнавайте, нет ли сыновей у негодяя», или…
Эти формулы Слуцкого врезаются в память, и не хуже поэтических афоризмов Пастернака. Порой они даже похожи на пастернаковские - а порой пастернаковские строчки становятся похожи на строчки его антагониста: «История не то, что мы носили, а то, как нас пускали нагишом…» - «Семь с половиной дураков смотрели восемь с половиной!»
Это не удивительно: Пастернак был одним из поэтических учителей Слуцкого - не прямо, как Сельвинский или Брик, но опосредованно, не так явно, как, скажем, Ходасевич, чьи строчки и образы Борис Слуцкий использует в самых неожиданных ситуациях, но… все-таки был. Больше того: в первом зафиксированном высказывании Бориса Слуцкого о поэзии мелькает тень Пастернака - об этом мы уже писали во второй главе.
1937 год. Четверо подростков проводят шуточную анкету. Отвечают на один-единственный вопрос: «Что такое поэзия?» Один из подростков - Борис Слуцкий. Его ответ удивителен и своей оглядкой на Пастернака, и своим бесстрашием для тех лет тотального страха. «Мы были музыкой во льду» - «единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.)». В этом его ответе сквозили и будущая чрезвычайно короткая военно-юридическая деятельность, и отказ после этого опыта от какой бы то ни было работы, связанной с юриспруденцией в условиях советского строя, и единственная ошибка, которую совершил Слуцкий в условиях этого самого строя.
Давид Самойлов, рассуждая об особенностях мышления своего «друга и соперника», пишет о «неумении предвидеть» Бориса Слуцкого. Замечание на редкость тонкое и точное, но неполное. Можно было бы предположить, что «неумение предвидеть» Бориса Слуцкого связано с его «фактовизмом», с тем, что он «с удовольствием катился к объективизму», - но как тогда связать этот «фактовизм», это «стремление к объективности» с утопизмом Бориса Слуцкого, с его верностью двадцатым годам, тогдашней готовности переделать и перекроить мир?
Скорее всего, дело было в том, что Слуцкий не столько «не умел предвидеть», сколько не хотел - и потому не мог… Борис Слуцкий писал «после будущего», после того, как все, что могло произойти, - произошло:
…Но задача, когда-то поставленная, не решенная, как была, и стоит она старая, старенькая, и действительно плохи дела. Удивительно плохи дела…
По этой причине Борис Слуцкий был поэтом последовательно трагического мировоззрения. В этом его принципиальное отличие от исторического оптимиста Бориса Пастернака.
Один из самых больших парадоксов эпохи - столкновение двух этих поэтов. Как ни удивительно, ницшеанец Борис Пастернак не просто вписывался в советскую идеологическую и эстетическую систему, он был одним из ее создателей, одним из самых талантливых ее творцов, тогда как демократический коммунист, ставший «гнилым либералом», Борис Слуцкий оказался одним из ее разрушителей. Многосотстраничный «Доктор Живаго» жанрово продолжает советское романное многопудье, тогда как «Кельнская яма» и уж тем более «Бог» становятся точкой разрыва традиции.
Типологического сходства с Пастернаком у Бориса Слуцкого не было. Было немало перетолкованных, переиначенных цитат - например, «День был душный, а тон был пошлый». Не было типологического сходства, но была отталкиваемая генеалогия. Полное, принципиальное, идейное несоответствие наложилось на ту игру, которую затеяли власти с интеллигенцией. Повторимся: если бы Пастернака спросили, готов ли он каким-либо смелым поступком разоблачить гнилостный обман «оттепели», обозначить те границы, за которые она не шагнет, он бы ответил: Да, готов… Если бы Слуцкого спросили, готов ли он сколь возможно расширить «оттепельные» границы, он бы ответил… Понятно, что бы он ответил.
При общем несходстве было в этих поэтах нечто общее, причем проявлялось оно в различии. И то и другое ярче всего проявлялось в том, как они читали стихи: так же, как и разговаривали в жизни. А дальше начиналось различие, потому что Пастернак разговаривал так же, как читал стихи. Слуцкий же читал стихи так же, как разговаривал: спокойно, деловито, сухо. Докладывал обстановку: «Человек на развилке путей / прикрывает глаза газетой, / но куда он свернет, / напечатано в этой газете. // (…) На развилке пред ним два пути, / но куда ему все же идти, / напечатано в этой газете». Эти стихи, впрочем, иначе как деловым и спокойным тоном и не прочитаешь. Интонация бытовой беседы у Пастернака была одической, пиитической, поэтической. Стиховая, поэтическая интонация у Слуцкого была интонацией бытовой, деловой беседы, даже если речь шла о чем-то невыносимом, ужасном: «Нас было семьдесят тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями…»
Думал ли Слуцкий о последствиях своего выступления, о том, как отнесутся к этому товарищи, о своей репутации, о себе, о Тане? Не мог не думать. Понимал ли, что один только факт появления на трибуне позорного судилища надломит, перекорежит всю жизнь? Конечно понимал. Но, принимая решение, он посчитал правильным поступиться личным интересом для общественной пользы, как он ее (пользу) понимал.
«Кто из нас, людей фронтового поколения, - писал В. Кардин, - прожил безгрешно? История Слуцкого особая. Он признавал свою вину… за “ошибочки”, ведшие к общим бедам. Пусть они совершались помимо него, пусть партия не спешила брать на себя ответственность за них. По собственной воле, по велению совести он принял на свои плечи непомерный груз, который норовил отпихнуть от себя едва не каждый».
«Чем упрямее Слуцкий намеревался следовать тому, чему присягнул, во что хотел, вопреки многому, верить, тем очевиднее проступала общая драма обманутых и обманывающихся людей, общая, всех нивелирующая, такая, при которой индивидуальный и недюжинный ум излишен» (Ст. Рассадин).
«Видимо, после пастернаковской истории, - пишет Вл. Корнилов, - Слуцкий написал:
Уменья нет сослаться на болезнь, Таланту нет не оказаться дома. Приходится, перекрестившись, лезть В такую грязь, где не бывать другому.
Как ни посмотришь, сказано умно, Ошибок мало, а достоинств много. А с точки зренья Господа-то Бога? Господь, он скажет все равно - говно.
Господь не любит умных и ученых, Предпочитает тихих дураков, Не уважает новообращенных И с любопытством чтит еретиков.
Это стихотворение напоминает строки Багрицкого:
Неудобно коммунисту Бегать как борзая…»
Здесь сыграло искреннее, хотя и ошибочное, убеждение Слуцкого в возможности либерализации общественной жизни, в необходимости поддержать и не дать увянуть первым росткам свободы. Поступок Пастернака казался ему провокацией, после которой может начаться «завинчивание гаек». Он посчитал, что отказ от выступления, уклонение от выполнения партийного задания объективно навредит «оттепели». Он думал, что ему удастся перевести обсуждение поступка Пастернака в осуждение Нобелевского комитета.
Мне приходилось неоднократно быть свидетелем жарких споров на эти темы между Слуцким и Самойловым. Самойлов считал XX съезд и последовавшее за ним известное постановление ЦК 1956 года высшей точкой «синусоиды», допускал возможность нисходящих и новых восходящих ветвей развития, понимал временный, преходящий характер «оттепели». Слуцкий был убежден и настаивал на том, что теперь развитие пойдет по «прямой» вверх. Я в своих оценках колебался между мнениями своих друзей: хотелось, чтобы все сложилось «по Слуцкому», но не верилось «по-самойловски». Стоит ли говорить, что жизнь подтвердила правоту Самойлова и заблуждение Бориса? Не в этом ли заблуждении причина трагедии Слуцкого? Не это ли объясняет (но не оправдывает) мотивы, приведшие Бориса Слуцкого на трибуну печально известного собрания московской писательской организации, подвергшего избиению Бориса Пастернака? (П. Г.)
За сутки до собрания Пастернак отказался от премии. В телеграмме в Стокгольм он писал: «В связи со значением, которое Вашей награде придает то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ». В этом не было ни малодушия, ни тем более трусости. Он боялся, но не за себя: его глубоко беспокоила судьба близких.
Но запущенный механизм травли не мог остановиться. Как бы то ни было, 31 октября собрание состоялось, и Борис Слуцкий на нем выступил.
О собрании написано немало. Приведем лишь впечатление присутствовавшего на собрании А. Мацкина:
«Удивительная была аудитория - все дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией, обнаружили себя в этой вакханалии…
Хотя это был конец 50-х годов, расправа шла по ритуалу процессов 30-х. Ораторы, сменяя друг друга, неистовствовали, и каждый старался превзойти другого в своем трибунальстве.
И вдруг в эту оргию включаются два достойнейших поэта - Слуцкий и Мартынов…»
Изданный позднее стенографический отчет позволяет представить, насколько «дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией» господствовали на собрании, сравнить выступление Слуцкого с другими выступлениями и убедиться, насколько удалось Слуцкому реализовать свой замысел «выступить как можно менее неприлично». Почти все выступавшие солидаризировались с комсомольским вожаком Семичастным, назвавшим Пастернака «свиньей, которая гадит там, где ест». С. С. Смирнов: «…я как-то невольно согласился со словами товарища Семичастного… Может быть, это были несколько грубоватые слова и сравнение со свинством, но по существу это действительно так…» В. Перцов «Товарищ Семичастный прав… Пастернак не только вымышленная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура… Пусть туда уезжает… надо просить, чтобы он не попал в предстоящую перепись населения». А. Софронов: «…я слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака быть не может… Вон из нашей страны». Л. Ошанин: «…не надо нам такого человека, такого члена ССП. Не надо нам такого советского гражданина». К. Зелинский: «Это человек, который держит нож за пазухой… Враг, причем очень опасный, извилистый, очень тонкий враг… Иди и получай свои 30 сребреников! Ты нам сегодня здесь не нужен». А. Безыменский: «Решение, которое принято об исключении из Союза, правильно, но это решение должно быть дополнено. Русский народ правильно говорит: “Дурную траву вон с поля”… Его уход от нашей среды освежил бы воздух». В. Солоухин: «…поскольку он является эмигрантом внутренним, то не стоит ли ему стать эмигрантом на самом деле». И все в таком духе… Только в выступлении Валерии Герасимовой не было ни слова об исключении и изгнании.
Выступление С. С. Смирнова заняло одиннадцать страниц отчета, выступления других писателей от двух до пяти страниц. Выступление Слуцкого заняло 18 строк (!). «Гнев» Слуцкого обрушился не на казнимого поэта, а на «господ шведских академиков». Приведем выступление Слуцкого полностью.
«Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература? За год до смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора “Анны Карениной”. Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого ищет поддержки!
Все, что делаем мы, писатели самых разных направлений, прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле».
В очень коротком выступлении Слуцкого (самом коротком из всех прозвучавших на собрании) нет ни единого слова об исключении Пастернака из Союза писателей, нет требований изгнать Пастернака из страны. Начисто лишено выступление Слуцкого и отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Бориса Пастернака. Он не говорил о поэте, хотя его отношение к Пастернаку-поэту к тому времени изменилось по сравнению с его ранними взглядами. Приводимые на этот счет в воспоминаниях Давида Самойлова резкие высказывания Слуцкого должны быть отнесены, с одной стороны, на счет нервного напряжения, в котором находился Слуцкий, споря со своим другом о Пастернаке после выступления, с другой - с идейной, идеологической позицией самого Самойлова. Вот что писал Давид Самойлов: «Слуцкий тогда составил иерархический список наличной поэзии. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов - № 1… В списочном составе литературного ренессанса не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез мне говорил, что Мартынов - явление поважнее и поэт поталантливее. Субординация подвела. «История с “Доктором Живаго” и с Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и Мартынова ясного ответа - встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власть и повредить ренессансу, либо защищать ренессанс…
Свой ренессанс оказался ближе к телу» .
Самойлов далее вспоминает, что ему «тогда логика этого поступка казалась убедительней, чем сейчас… Выступления официальных радикалов (Слуцкий, Мартынов) оказались неожиданными и показались непростительными. Объективно они не так виноваты, как это кажется. Люди - схемы, несколько отличающейся от официальной, но тем не менее - люди схемы, они в своей расстановке сил современной литературы, в ее субординационных реестрах не нашли места для Пастернака и Ахматовой. А намерения у них были самые лучшие. Пастернак и Ахматова казались вчерашним днем литературы. Ренессанс сулил будущее. Стоило отказаться от прошлого во имя будущего. Нужно было “не пугать власти” радикализмом, а искать примирительных позиций, не размежевываться, а объединяться во имя спасения нового ренессанса. Идея эта жалкая, многократно использованная всеми видами конформистов и всегда приводившая литературу к потере нравственного авторитета и к новым зажимам».
Отношение к выступлению Бориса Слуцкого занимает видное место в воспоминаниях о нем. Большинство простило его, но никто не забыл. Когда собиралась книга воспоминаний о Слуцком, составителя упрекали за то, что в книге излишне много «этого». Но составитель бессилен «вырубить топором то, что написано пером», как бы ни был ему близок и дорог Слуцкий.
«Из всей биографии Слуцкого, - пишет Алексей Симонов, - в благодарной памяти современников больше всего запечатлелся факт его участия в знаменитом “толковище” по осуждению Пастернака…
Почему всем забыли, а ему - не забыли?
Говорят, мы живем в жестокий век. Лично я не согласен. Не знаю, как век целиком, а вторая его половина - о которой я могу судить как участник, - начинающаяся со смерти Сталина, представляется мне периодом всепрощения со все уменьшающимся расстоянием между преступлением и отсутствием наказания… Возвращаясь к Слуцкому, тем я и объясняю феномен избирательности нашей памяти по отношению к нему, что он испытывал муки совести там, где остальные давно и безнадежно себя простили…
Если есть разгадка “феномена” Слуцкого, то она лежит… в редко цитируемой строфе:
И если в прах рассыпалась скала, вину и на себя я принимаю» .
Приведем еще несколько наиболее значимых воспоминаний.
Семен Липкин: «Через несколько дней после выступления Слуцкий ко мне пришел без предварительного звонка. Он был небрит, его обычное бесстрастное, командирское лицо налилось краской… я не был расположен к добродушной беседе:
Боря, вы понимаете, что никакое собрание не может исключить из русской литературы великого поэта. Вы, умный человек, совершили поступок не только дурной, но и бессмысленный.
Слуцкий беспомощно возразил:
Я не считаю Пастернака великим поэтом. Я не люблю его стихи.
А стихи Софронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Софронова?
Но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного виршеплета вы оставляете в Союзе писателей, а Пастернака изгоняете.
… Когда Слуцкий тяжело заболел, я почувствовал, что не должен был с ним так разговаривать.
… Мы встретились после похорон Пастернака. Слуцкий нервно стал расспрашивать меня о похоронах… Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль».
Давид Самойлов: «Я о предстоящем выступлении не знал. Он со мной не советовался. После отвратительного собрания… Слуцкий, взволнованный, пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся. Так еще действовала на меня логика Слуцкого, его как бы историческая, тактическая правота.
Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса. Он раскаялся в своем поступке. И внутренне давно за него расплатился.
Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко и Межирова, которые никогда не были выше его нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего вспоминают Слуцкого, совсем не поминая Мартынова и вскользь Смирнова?
Со Слуцкого спрос больший».
Нина Королева: «Конечно, нам было жаль, что Слуцкий, как и Леонид Мартынов, выступил с осуждением Пастернака, но мы ведь не знали, как и почему это произошло, насколько в этом была его добрая воля… За дорогого поэта было больно».
Д. Шраер-Петров: «Скандально обвиняют теперь друг друга писатели в предательстве Пастернака. Как найти разницу между тем, кто голосовал против опального поэта, требовал его распятия или заперся в туалете во время прений? Я предпочитал не верить. Такой человек не мог!»
Соломон Апт: «Кто хоть сколько-нибудь знал Слуцкого, тот не сомневается, что он мучился своей виной безысходно и, в отличие от некоторых других тогдашних ораторов, не успокаивал себя впоследствии ссылкой на то, что такое уж, мол, время было такое».
Владимир Огнев: «Тогда я был поражен неожиданностью поступка Бориса. Теперь я жалею Слуцкого и смущен эффектной жестокостью Евтушенко, подавшего на моих глазах “тридцать сребреников” - две пятнашки за его выступление против Пастернака».
Евгений Евтушенко: «Он сам о себе пророчески написал: “Ангельским, а не автомобильным сшибло, видимо, меня крылом”. Человек этически безукоризненный, он допустил, насколько я знаю, только одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его.
Мало ли людей совершают ошибки, а вот мучаются далеко не все. Уровень мук совести - это уровень самой совести. Ошибка, мучившая его, состояла в том, что однажды он выступил против Пастернака. Слуцкий сполна расплатился за это, - но не только своими муками, а не совершением других подобных ошибок. Я, воспитанный и его поэзией, и им самим, столько раз пригретый, накормленный, снабженный деньгами, которые у него всегда находились для других, оказался по-мальчишески жесток к нему; и на некоторое время наша, почти ежедневная, дружба прервалась. Я забыл о том, что он смертен.
Прав ли был Слуцкий, когда он писал: “Грехи прощают за стихи. Грехи большие - за стихи большие”, я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: “Ударь, но не забудь. Убей, но не забудь”, пронзает своим предсмертным мужеством самоосуждения».
Галина Медведева: «…трудно понималась роковая ошибка Слуцкого, так смазавшая и надломившая блестящее начало пути. Честолюбивое желание стать в первые ряды чуть вольнее вздохнувшей литературы, вполне законное, но если бы без человеческих жертв… За то, что Слуцкий сам себя казнил, ему простилось. Даже неподкупная Л. К. Чуковская говорила о его раскаянии сочувственно и мягко. Но как по-человечески жаль этой горестной муки, этой пытки совестью…»
Несмотря на отказ от премии, Пастернак, по-разному оцененный в обществе и литературных кругах, вел себя мужественно и удивительно спокойно. По свидетельству близких, Борис Леонидович в самые тягостные и мрачные октябрьские дни 1958 года работал за столом, переводил «Марию Стюарт». Но «эпопея» не могла не отразиться на здоровье. Менее чем через два года после травли и вынужденного отказа от премии, 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак скончался. Ему было семьдесят лет. Он уходил из жизни так же мужественно, как и жил. Похороны Пастернака оказались первой публичной демонстрацией набиравшей силу демократической литературы.
Слуцкий в годы, последовавшие после 1958-го, думал о московском писательском собрании и о своем выступлении, писал стихи, которые становятся более понятны, коль скоро они воспринимаются на фоне пастернаковской истории.
Бьют себя мечами короткими, проявляя покорность судьбе, не прощают, что были робкими, никому. Даже себе.
Где-то струсил. И этот случай, как его там ни назови, солью самою злой, колючей оседает в моей крови.
Солит мысли мои и поступки, вместе, рядом ест и пьет, и подрагивает, и постукивает, и покоя мне не дает.
Жизнь, хотя и окрашенная мрачными воспоминаниями, продолжалась. «Он освобождался, он выжигал в себе раба предвзятых истин, кабинетных схем, бездушных теорий. В его творчестве конца 60–70-х годов нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. “Политическая трескотня не доходит до меня”, - писал теперь один из самых политических русских поэтов. От нервного пулеметного треска политики он уходил к спокойному и чистому голосу правды - и она откликалась в нем строками прекрасных стихов» (Ю. Болдырев).
Считать, что Пастернак всю свою жизнь был неугодным советским властям писателем, — не совсем верно. До середины 1930-х годов большой том его стихотворений активно издаётся, а сам Пастернак участвует в деятельности Союза писателей СССР, стараясь при этом не склоняться перед власть имущими. Так, в 1934 году на первом съезде советских литераторов Борис Леонидович сказал, что потеря своего лица грозит превращением в «социалистического сановника». На том же съезде Николай Бухарин (уже потерявший былую власть, но ещё имеющий вес в партии) называет Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. Но уже через два года, в начале 1936-го, ситуация начинает меняться: правительство СССР недовольно слишком личным и трагическим тоном произведений поэта. Советскому Союзу нужны не декаденты, а писатели-активисты. Но тогда Пастернак в полную опалу не попадает.
Говоря об отношениях писателя с советской властью, обычно вспоминают два эпизода, связанных с Иосифом Сталиным. Первый (и наиболее известный) произошёл 13 июня 1934 года. События того дня Борис Леонидович Пастернак будет вспоминать всю свою жизнь, особенно в разгар развернувшийся травли. Около половины четвёртого дня в квартире писателя раздался звонок. Молодой мужской голос сообщил Пастернаку, что сейчас с ним будет говорить Сталин, чему поэт не поверил, но продиктованный номер всё-таки набрал. Трубку действительно поднял Генеральный секретарь партии. Показания свидетелей о том, как на самом деле прошёл этот разговор, разнятся. Точно известно, что Сталин и Пастернак говорили об Осипе Мандельштаме, отправленном в ссылку из-за издевательской эпиграммы, направленной против сталинского режима и самого Иосифа Виссарионовича. «Отец народов» спросил, друг ли Мандельштам Пастернаку, хороший ли он поэт... Что именно ответил Пастернак, неизвестно, но, судя по всему, писатель пытался уйти от неудобных вопросов, пускаясь в пространные философские рассуждения. Сталин сказал, что так товарищей не защищают, и бросил трубку. Раздосадованный Пастернак попытался дозвониться до генсека снова, уговорить того отпустить Мандельштама, но трубку никто не взял. Пастернак считал, что поступил недостойно, из-за чего долгое время не мог работать.
Уже через год, осенью 1935-го поэту выпал шанс заступиться за других литераторов. Он отправил Сталину личное послание, где просто и искренне попросил отпустить мужа и сына Анны Ахматовой — Николая Пунина и Льва Гумилёва. Оба оказались на свободе ровно через два дня. Об этих эпизодах Пастернак вспомнит в начале 1959 года, когда, доведённый до отчаяния травлей и отсутствием заработков, будет вынужден написать письмо Дмитрию Поликарпову — одному из главных виновников своих бед: «Действительно страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключённых и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону».
- Борис Пастернак с супругой Зинаидой на даче, 1958 год
Стихи — это необработанная проза
Главной причиной травли стал единственный роман писателя — «Доктор Живаго». Пастернак, до публикации этого произведения работавший с поэзией, считал прозу более совершенной формой передачи мыслей и чувств писателя. «Стихи — это необработанная, неосуществлённая проза», — говорил он. Время после Великой Отечественной войны ознаменовалось для Пастернака ожиданием перемен: «Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и ещё раньше, до наступленья этого благополучия в частной жизни и обиходе, — поразительное огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство». Для такой страны он и начал писать «Доктора Живаго» — символический роман, проникнутый христианскими мотивами и повествующий о первопричинах революции. И герои его — это символы: Живаго — русское христианство, а главный женский персонаж Лара — сама Россия. За каждым героем, за каждым событием в романе стоит нечто гораздо большее, всеобъемлющее. Но первые читатели не смогли (или не захотели) этого понять: они хвалили стихотворения, которые вошли в книгу под видом творчества Юрия Живаго, говорили о прелести пейзажей, но главную задумку не оценили. Как ни странно, смысл произведения уловили на Западе. В письмах писателей о «Докторе Живаго» зачастую говорится, что этот роман позволяет западному человеку лучше понять Россию. Но эти слова поддержки до Пастернака почти не доходили из-за развёрнутой травли со стороны властей и даже литературного сообщества. Он с трудом получал весточки из других стран и был вынужден заботиться прежде всего о том, как прокормить свою семью.
Официальная и полномасштабная кампания против Бориса Леонидовича Пастернака развернулась уже после получения им Нобелевской премии в 1958 году. Руководство партии настаивало на том, что награда была дана Пастернаку за роман «Доктор Живаго», который порочит советский строй и якобы не имеет никакой художественной ценности. Но следует помнить о том, что Пастернак тогда выдвигался на премию уже не впервые: Нобелевский комитет рассматривал его кандидатуру с 1946 года, а роман тогда ещё не существовал даже в черновиках. Да и в обосновании награды сначала говорится о достижениях Пастернака как поэта, а потом уже о его успехах в прозе: «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа».
Но неверно говорить и о том, что «Доктор Живаго» не оказал никакого влияния на решение Нобелевского комитета. Роман, вышедший в Италии в 1957 году, имел значительный успех. Его читали в Голландии, Великобритании и США. «Что с того, что ты в Переделкине одиноко свершаешь свой невидимый подвиг, — где-то наборщики в передниках за то получают зарплату и кормят свои семьи, что набирают твоё имя на всех языках мира. Ты способствуешь изжитию безработицы в Бельгии и в Париже», — писала Пастернаку двоюродная сестра Ольга Фрейденберг. ЦРУ, разделявшее точку зрения советского правительства об антиреволюционной направленности романа, устроило бесплатную раздачу «Доктора Живаго» русским туристам в Бельгии и планировало доставить «пропагандистскую» книгу в страны социалистического блока.
Всё это ещё до присуждения премии обеспечило Борису Леонидовичу Пастернаку опалу. Изначально писатель отдал рукопись не иностранцам, а русскому журналу «Новый мир». Ответ из редакции долго не приходил Пастернаку, поэтому он в конце концов решил передать права на публикацию романа итальянскому издателю Джанджакомо Фельтринелли. К концу 1956 года копия романа была уже в редакциях крупнейших западноевропейских государств. Советский Союз, в публикации отказавший, заставлял Пастернака отозвать книгу, но остановить процесс уже не представлялось возможным.
Пастернак прекрасно понимал, какими проблемами может обернуться для него получение Нобелевской премии, и всё же 23 октября 1958 года, в день своего триумфа, направил в Шведскую академию слова искренней признательности. Советское руководство было взбешено: СССР настаивал на том, чтобы награду получил Шолохов, но Нобелевский комитет их просьбам не внял. Кампания против Пастернака началась тут же: к нему приходили коллеги, фактически требуя отказаться от премии, но писатель был непреклонен. А 25 октября началась травля в СМИ. Московское радио сообщило, что «присуждение Нобелевской премии за единственное среднего качества произведение, каким является «Доктор Живаго», — политический акт, направленный против советского государства». В тот же день «Литературная газета» опубликовала статью, в которой назвала Пастернака «наживкой на крючке антисоветской пропаганды». Через два дня, 27 октября, на специальном заседании Союза писателей СССР было решено исключить Пастернака из организации и просить Хрущёва выслать провинившегося поэта из страны. В печати с завидным постоянством появлялись критические, если не сказать оскорбительные публикации. Основной проблемой всех этих выпадов было то, что практически никто из обвинявших роман не читал. В лучшем случае они были знакомы с несколькими кусками, вырванными из контекста. Пастернак пытался обратить на это внимание в тех редких письмах, которые он отправлял своим обвинителям, но всё было тщетно: приказ «затравить» нобелевского лауреата и заставить его отказаться от награды поступил сверху. Сам Хрущёв, не стесняясь, назвал Пастернака свиньёй, что с готовностью подхватили и другие преследователи.
Но не эти нападки заставили Пастернака отказаться от премии: писатель для сохранения здоровья перестал читать прессу. Последней каплей в чаше терпения и без того глубоко несчастного человека стали слова его музы, Ольги Ивинской. Она, опасаясь за свою свободу, обвинила писателя в эгоизме: «Тебе ничего не будет, а от меня костей не соберёшь». После этого Пастернак отправил в Швецию телеграмму о том, что принять почётную награду он не сможет.

- globallookpress.com
- Russian Look
«Исключение Пастернака — позор для цивилизованного мира»
Но расчёт советского правительства не оправдался: отказ Пастернака от премии прошёл почти незаметно, зато травля писателя получила широкий общественный резонанс во всём западном мире. Крупнейшие писатели того времени, включая Олдоса Хаксли, Альбера Камю, Андре Моруа, Эрнеста Хемингуэя, выступали в поддержку советского писателя, отправляли письма в правительство СССР с настоятельной просьбой прекратить преследование Пастернака.
«Исключение Пастернака представляет собой нечто невероятное, заставляющее вставать дыбом волосы на голове. Во-первых, потому, что присуждение Шведской академией премии обыкновенно считается за честь, во-вторых, потому, что Пастернак не может нести ответственности за то, что выбор пал на него, наконец, потому, что произвол, который допустили советские писатели, лишь увеличивает пропасть между западной культурой и русской литературой. Было время, когда великие писатели, как Толстой, Чехов, Достоевский, совершенно справедливо гордились престижем, который они имели на Западе».
Андре Моруа
«Единственное, что России надо было бы понять, — это то, что Нобелевская премия вознаградила большого русского писателя, который живёт и работает в советском обществе. К тому же гений Пастернака, его личные благородство и доброта далеки от того, чтобы оскорблять Россию. Напротив, они озаряют её и заставляют любить её больше, чем любая пропаганда. Россия пострадает от этого в глазах всего мира лишь с того момента, как будет осуждён человек, вызывающий теперь всеобщее восхищение и особенную любовь».
«Исключение Пастернака — позор для цивилизованного мира. Это означает, что он в опасности. Его надо защитить».
Лондонская газета News Chronicle
Кампания по защите Бориса Пастернака приобрела невиданные масштабы. Иностранные коллеги и читатели писали ему много писем с предложениями помощи. Поддержку писателю оказал даже премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, который позвонил лично Хрущёву. После этого Первый секретарь СССР понял, что дела обстоят весьма серьёзно, и отправил в посольства нескольких стран письма, где официально заверял, что жизнь, свобода и имущество Пастернака находятся вне опасности.
Страшный скандал разгорелся в Швеции: здесь лауреат Ленинской премии Артур Лундквист заявил о своём отказе от награды в поддержку Пастернака. Средства массовой информации всего мира говорили о советском писателе, что иногда приводило к довольно курьёзным случаям. Например, один фермер жаловался на то, что история с Пастернаком может его разорить, потому что радиостанции, занятые обсуждением Нобелевской премии по литературе, перестали передавать информацию о ценах на зерно и прогнозы погоды.
Но жизнь Пастернака от этого не изменилась к лучшему. Сначала он опасался одного — высылки. Писатель не представлял себе жизни без России, поэтому иногда шёл на уступки власти, чтобы остаться на родине. Затем перед нобелевским триумфатором встала другая проблема — он перестал получать гонорары. Его, уже совсем не молодого и к тому же семейного человека, лишили средств к существованию. При этом гонорары за «Доктора Живаго» дожидались своего хозяина за рубежом. Получить их у писателя не было никакой возможности.
Но даже в такой атмосфере Пастернак не прекращал творить: работа помогала сохранять остатки моральных сил. Писатель задумал пьесу о крепостном актёре, который развивает свой талант, несмотря на унизительное рабское положение. Постепенно замысел становился всё более масштабным, превращаясь в пьесу обо всей России. Она называлась «Спящая красавица», но закончена так и не была: Пастернак, задумавший новое произведение летом 1959-го, ушёл из жизни 30 мая 1960 года.
Через 27 лет после смерти Пастернака, 19 февраля 1987 года, Союз писателей СССР наконец отменил свой указ об исключении Бориса Леонидовича. Все эти годы в стране шёл медленный процесс реабилитации писателя. Сначала его существование перестали полностью замалчивать, потом стали говорить о нём в нейтральном ключе. Период замалчивания и искажений закончился в конце 1980-х: сначала раскаялся Союз писателей, затем с пронзительной статьёй в память о Пастернаке выступил смертельно больной Виктор Некрасов (правда, в нью-йоркской газете) и наконец в 1988 году, с запозданием в 30 лет, журнал «Новый мир» опубликовал полный текст «Доктора Живаго». В следующем году родные Пастернака получили за него Нобелевскую премию. 10 декабря 1989 года в Стокгольме в честь великого русского писателя, лишившегося законного права быть триумфатором, звучала чарующе-трагическая мелодия из сюиты Баха d-moll для виолончели соло.
Нобелевский комитет в Стокгольме объявил о присуждении премии по литературе поэту Борису Пастернаку. По совокупности заслуг перед мировой литературой и за создание "в трудных условиях" романа "Доктор Живаго". Пастернак еще не подозревает, что через два дня "Правда" опубликует его письмо верховному правителю Никите Хрущеву. Собственно, и о самом письме он еще не знает.
Тем временем в доме музы поэта Ольги Ивинской скрипят перья. Молодой адвокат из Управления по охране авторских прав Зоренька Грингольд подсказал ("подтолкнул") Ивинской мысль о письме. Хотя и без Зореньки она уже говорила писателю Федину о письме "кому угодно", подписать которое она бралась "уговорить Пастернака". Ивинская вместе с Ариадной Эфрон зовут к себе сына драматурга Всеволода Иванова, Вячеслава, и сообщают ему: "по словам адвокатов по авторским правам, ситуация стала угрожающей. Если Борис Леонидович не напишет письма с покаяниями, то его вышлют за границу. "Его вышлют, а нас всех посадят", - со свойственной ей категоричностью сформулировала Ариадна Сергеевна".
Вячеслав Иванов с Ариадной Эфрон, Ивинской и ее дочкой Ирой Емельяновой садятся составлять письмо Хрущеву, руководствуясь пожеланиями тех же адвокатов. Формулировки, заверит потом Иванов, давались ему с трудом, так что "в основном придумывали Ольга Всеволодовна и Ариадна Сергеевна". Пригодились готовые фразы Пастернака, в частности, из его письма Фурцевой.
После чего Иванов с Емельяновой отправились в Переделкино к Борису Леонидовичу. Так Пастернак узнал о том, что он написал письмо Никите Сергеевичу.
Перепечатанный текст он взял только "после очень долгого телефонного разговора с Ольгой Всеволодовной". На машинописной копии этого письма остались замечания Пастернака синим и красным карандашом на полях. Просьба заменить "в вашем письме" абзац: "Я являюсь гражданином своей страны..." словами: "Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее". В конце страницы его синим карандашом вычеркнуто: "Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры" и написано: "Я это обещаю. Но нельзя ли на это время перестать обливать меня грязью". Эти слова Пастернака зачеркнуты чужой рукой простым карандашом.
В письмо, по словам Евгения Борисовича, сына Пастернака, вписали одну из его поправок, - этим его участие и ограничилось. Бумагу немедленно отвезли в Москву. Подпись под письмом была его - вынужденная подпись.
Что могло его "вынудить"? К тому времени Пастернак - после ссоры с Ивинской ("Тебе ничего не будет, а от меня костей не соберешь"!) - уже отправил телеграмму в Стокгольм с "добровольным отказом" от Нобелевской премии. Еще один известный факт: чуть позже, в феврале, после того, как в лондонской Daily Mail появилось стихотворение "Нобелевская премия", переданное Пастернаком, жена поэта, Зинаида Николаевна, в присутствии иностранных журналистов заявит: "Если это будет продолжаться, я уйду от тебя". Это - к тому, меж каких "двух огней" был в те дни Пастернак, больше всего опасавшийся возможных бед для своих родных и любимых.
Ко времени появления письма Борис Пастернак был назван на всю страну: а) овцой ("паршивая овца"), б) лягушкой ("лягушка в болоте", в) свиньей ("даже свинья не гадит там, где ест").
Уже произнесут и ставшее легендарным "Пастернака не читал, но осуждаю": а) слесарь-механик 2-го часового завода тов. Сучатов, б) экскаваторщик Федор Васильцов, в) секретарь Союза писателей СССР Анатолий Софронов.
На третий день после присуждения премии, 25 октября, заседала партийная группа Президиума Союза писателей. "В выступлениях тт. Грибачева и Михалкова была высказана мысль о высылке Пастернака из страны. Их поддержала М. Шагинян".
На пятый день, 27-го, писатели собрались на совместное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиума Правления Московского отделения Союза писателей РСФСР. Пастернак прислал им записку, в которой уверял, что искренне верит: "можно быть советским человеком и писать книги, подобные "Доктору Живаго". Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания"… В той же записке: "Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит".
Записку признали "возмутительной по наглости и цинизму", ибо "Пастернак захлебывается от восторга по случаю присуждения ему премии и выступает с грязной клеветой на нашу действительность". Твардовский, которого Пастернак спас во время нападок на его "Страну Муравию", не был по болезни.
Чуковский, поначалу поздравивший Пастернака с премией, был пристыжен, за него реабилитировался сын, Николай Корнеевич: "Во всей этой подлой истории, - сказал Н. Чуковский, - есть все-таки одна хорошая сторона - он сорвал с себя забрало и открыто признал себя нашим врагом. Так поступим же с ним так, как мы поступаем с врагами".
Считавшийся другом Пастернака поэт Николай Тихонов (за которого Пастернак вступался, когда над тем сгущались тучи в 30-е годы) председательствовал на писательском заседании. Писательница Г. Николаева заявила, что Пастернак - "власовец": "Мало исключить его из Союза - этот человек не должен жить на советской земле". Писательница Вера Панова: "Видеть это отторжение от Родины и озлобление даже жутко". Выступившие поэты Леонид Мартынов и Борис Слуцкий потом всю жизнь казнились, но тоже выступили с осуждением Пастернака - Давид Самойлов потом объяснил: из желания спасти от погрома поэтический цех и утвердить "новый ренессанс". Семен Кирсанов не выступал, но проголосовал вместе со всеми за исключение Пастернака из числа членов Союза писателей СССР.
Литинститут полным составом осудил "предательство в отношении Родины". "Только два студента - Панкратов и Харабаров, вхожие в "салон" Пастернака, проявили колебания и не сразу подписали это письмо". Прежде чем подписать, они пришли к Пастернаку просить разрешения предать его. Пастернака поразило, как весело побежали они потом по дорожке, держась за ручки.
…Все это короткий (подробностей на самом деле куда больше) пересказ того, что произошло всего за десять дней. Пастернака раздирали со всех сторон - буквально. Коротко говоря, нечеловеческие внешние и внутрисемейные обстоятельства - все это вместе взятое и не оставляло Пастернаку выбора: он подписал письмо Хрущеву, которого не писал. На десятый день после присуждения Нобелевской премии газета "Правда" опубликовала это письмо.
Уважаемый Никита Сергеевич,
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству. Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство "не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР".
Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.
Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.
Б. Пастернак
(К письму приложена записка: "Разослать членам Президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 31.X.58. В. Малин").
Письмо в "Правду"
Одного письма оказалось мало. Дмитрий Поликарпов, завотделом культуры ЦК, требует от Пастернака, чтобы он "помирился с народом". Пастернак отвечает: "Ведь вы - умный человек, Дмитрий Алексеевич, как вы можете употреблять такие слова. Народ - это огромное, страшное слово, а вы его вытаскиваете, словно из штанов, когда вам нужно".
Однако Пастернаку (а также Ивинской) мгновенно остановили все выплаты гонораров, отменили все договоры и заказы на переводы, отменили спектакли по переведенным Пастернаком пьесам, блокировали всю переписку. Поликарпов обещал уладить все эти проблемы - так в конце концов было составлено еще одно "письмо Пастернака". В редакцию газеты "Правда". Ольга Ивинская расскажет спустя годы: "Борис Леонидович написал - сначала это было отнюдь не покаянное письмо. Потом над ним сильно потрудились, так что получилась ложь и признание вины. Да еще подчеркнуто добровольное".
Сохранились черновики этого письма. Вот что было в первоначальном, предложенном Пастернаком тексте: "В продолжение бурной недели я не подвергался судебному преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Если благодаря посланным испытаниям я чем и играл, то только своим здоровьем, сохранить которое помогли мне совсем не железные запасы, но бодрость духа и человеческое участие. Среди огромного множества осудивших меня, может быть, нашлись отдельные немногочисленные воздержавшиеся, оставшиеся мне неведомыми. По слухам (может быть, это ошибка) за меня вступились Хемингуэй и Пристли, может быть, писатель-траппист Томас Мертон и Альбер Камю, мои друзья. Пусть, воспользовавшись своим влиянием, они замнут шум, поднятый вокруг моего имени. Нашлись доброжелатели, наверное, у меня и дома, может быть, даже в среде высшего правительства. Всем им приношу мою сердечную благодарность.
В моем положении нет никакой безвыходности. Будем жить дальше, деятельно веруя в силу красоты, добра и правды. Советское правительство предложило мне свободный выезд за границу, но я им не воспользовался, потому что занятия мои слишком связаны с родною землею и не терпят пересадки на другую".
Отправляя текст, Пастернак просил Поликарпова "не увлекаться переделкой и перекройкой" написанного. Однако окончательный текст значительно отличался от первоначального. По словам Евгения Пастернака, оба эти письма нельзя публиковать, как "письма Пастернака". Хотя и под вторым письмом стоит такая же вынужденная подпись поэта.
"Я обращаюсь к редакции газеты "Правда" с просьбой опубликовать мое заявление. Сделать его заставляет меня мое уважение к правде.
Как все происшедшее со мною было естественным следствием совершенных мною поступков, так свободны и добровольны были все мои проявления по поводу присуждения мне Нобелевской премии. Присуждение Нобелевской премии я воспринял как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю Шведской Академии Андерсу Эстерлингу. Но я ошибся. Так ошибиться я имел основание, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, например пять лет назад, когда моего романа еще не существовало.
По истечении недели, когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа, и убедился, что это присуждение шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ. В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим.
Но между мною и этой связью стали стеной препятствия по моей собственной вине, порожденные романом. У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу. Редакция "Нового мира" предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею.
В самом деле, если принять во внимание заключения, вытекающие из критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одним из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастья и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию.
Мне ясно, что под такими утверждениями, доведенными до нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем мой труд, награжденный Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию, и это причина, почему в конце концов я от премии отказался. Если бы издание книги было приостановлено, как я просил моего издателя в Италии (издания в других странах выпускались без моего ведома), вероятно, мне удалось хотя бы частично это поправить. Но книга напечатана, и поздно об этом говорить.
В продолжение этой бурной недели я не подвергался преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои действия совершаются добровольно. Люди, близко со мною знакомые, хорошо знают, что ничто на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал и что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое живу, и за людей, которые меня окружают. Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доброе имя и подорванное доверие товарищей.
Б. Пастернак".
(К письму приложена записка: "Срочно. Разослать членам Президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 5.ХI-58 г. В. Малин". Опубликовано в "Правде" 6 ноября 1958 г.).
Послесловие к двум письмам
11 февраля 1959 года в лондонской Daily Mail появилось стихотворение "Нобелевская премия", переданное Пастернаком: "Я пропал, как зверь в загоне. Всюду воля, люди, свет, А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет..."
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора -
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
После этой публикации Пастернак был задержан посреди улицы, усажен в автомобиль и доставлен на допрос к генпрокурору Руденко. Допрос, судя по сохранившейся неполной стенограмме, свелся к запугиванию поэта. Подготовка судебного процесса против Пастернака действительно шла - судя по сохранившимся архивным документам.
Тем временем итальянский издатель "Доктора Живаго" Джакомо Фельтринелли уже перечислил на швейцарский счет, открытый для Пастернака, 900 тысяч долларов. Пастернак вынужден был отказаться от этих вкладов - после чего вой вокруг него стал утихать. Заплатили за выполненные переводы. Опять прикрепили к поликлинике Литфонда.
Правда, через год Борис Пастернак умер. Лечили от пневмонии, внезапно обнаружили рак легких. Ольгу Ивинскую после смерти Пастернака посадили на три года, незаконно обвинив в получении денег за "Доктора Живаго".
* * *
Кажется, все в истории с "Доктором Живаго", Нобелевской премией автору и расправой над писателем время расставило по местам. Но эта история все равно осталась загадкой. Необъяснимой с точки зрения здравого смысла, простой человеческой логики и даже государственных интересов.
Почему надо было визжать, а не гордиться? Почему было расправляться, а не радоваться? Отчего с такой готовностью сотни и тысячи человек бросились топтать и врать про одного - гениального? Не один только страх тут был. Было и другое. Слесарю светила премия от бригадира. Чиновнику продвижение за рвение. Писателю удовлетворение тщеставия и ревности, каракулевая шапка и к тому же - вдруг освободится дача литфондовская? Во всякой расправе каждому из тысяч палачей светит что-то свое, тихое, неприметное.
Удобно и плоско - смахнуть эту историю со стола, объяснив все мотивы и поступки одним лишь кровожадным ужасом системы. Главный ужас-то в другом: в абсолютной искренности предательства, лицемерия, подлости и готовности растоптать любого. Из любой личной выгоды. Из кланового интереса. Потому что в тусовке не поймут. По партийному долгу. Для креативной солидарности. Потому что пацаны обидятся. Просто потому что не "свой". Просто зло берет, что талантливей. Просто - если не растопчу, меня растопчут. Просто выпал случай отыграться. Просто своя рубашка дороже. Просто один раз - не тарантас. Просто ты мне друг, но если из нас двоих что-то светит не мне, а тебе, - перешагну через твой труп… И это до бесконечности.
Главный ужас в том, что вот это неистребимо в людях. При любой системе, при любом либерализме. Стоит только кому-то не так прислониться к дверному косяку. Да еще ловить в далеком отголоске, что случится на твоем веку.
Настежь все, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, -
Пахнет свежим воздухом навоз.
(Б.Пастернак, "Март")
Когда я с честью пронесу
Несчастий бремя,
Означится, как свет в лесу,
Иное время.
Борис Пастернак
23 ноября 1957 г. в Милане в издательстве Дж. Фельтринелли был опубликован роман Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго». Спустя год после публикации романа, 23 октября 1958 г., Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Однако прошло много лет, прежде чем русский читатель познакомился с этой запрещенной в СССР книгой.
Перипетии истории издания романа и кампания травли его автора, развернувшейся после решения членов Шведской академии, сами достойны пера романиста. Эти события освещалась в воспоминаниях, литературоведческих трудах, в публикациях документов из личных архивов. Многие годы под спудом лежали официальные документы «крестового похода» против поэта. Не зная содержания этих документов, о многом, что происходило за кулисами власти, можно было только догадываться. Решения о судьбе Пастернака принимались в ЦК КПСС, здесь против него разрабатывались политические и идеологические акции. Хрущев, Брежнев, Суслов, Фурцева и другие властители лично знакомились с прошлым поэта, его отношениями с людьми, по перехваченным обрывкам высказываний, выдержкам из писем и произведений принимали решения, выносили не подлежащие обжалованию приговоры. Активнейшую, а в определенном смысле и решающую роль во всей этой истории играли советские спецслужбы.
Эпоха, с легкой руки Ильи Эренбурга получившая название «оттепели», обернулась «заморозками». Оказалось, что нужно не так много, чтобы в ее разгар на человека, опубликовавшего художественное произведение за границей и тем нарушившего неписаное «идеологическое табу», обрушилась вся мощь государства. Об этом свидетельствуют документы Президиума (Политбюро) и Секретариата ЦК КПСС, аппарата ЦК КПСС и документы, присланные на Старую площадь из КГБ, Генеральной прокуратуры, МИД, Главлита, из Союза писателей СССР. Эти документы читали, на них оставили свои резолюции и пометы высшие руководители страны.
В июне 1945 г. Пастернак писал: «Я почувствовал, что только мириться с административной росписью осужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти к публике». Позднее, 1 июля 1956 г., оглядываясь назад, он писал Вяч. Вс. Иванову, что еще во время войны почувствовал необходимость решиться на что-то, что «круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу… это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широких основаниях».
Писатель убеждал себя и близких в том, что «нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей». В романе он хотел дать «исторический образ России за последнее сорокапятилетие», выразить свой взгляд на искусство, «на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое». Первый замысел произведения «о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны» писатель хотел воплотить за короткий срок, в течение нескольких месяцев. Задача тем более грандиозная, что до сих пор у писателя был небольшой прозаический опыт – написанные им до войны автобиографическая «Охранная грамота» и повесть «Детство Люверс».
Однако внешние события не позволили реализовать этот план. В послевоенных идеологических кампаниях нашлось место и Пастернаку. Об «отрыве от народа», «безыдейности и аполитичности» его поэзии заговорили сразу после постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Пример подал в своих выступлениях первый секретарь Союза писателей Александр Фадеев. В резолюции президиума Союза писателей Пастернак объявлялся «далеким от советской действительности автором», не признающим «нашей идеологии». В газетах появились разгромные статьи. Весной 1947 г. Алексей Сурков в официозе «Культура и жизнь» «припечатал» поэта словами о «скудности духовных ресурсов», «реакционности отсталого мировоззрения» и выводом о том, что «советская литература не может мириться с его поэзией».
Выдвижение кандидатуры Пастернака на соискание Нобелевской премии только подлило масла в огонь. Кампания борьбы с «космополитизмом» 1948 г. затронула и Пастернака. В результате была остановлена публикация его сочинений. Тираж «Избранного», подготовленного в издательстве «Советский писатель» в 1948 г., пустили под нож, была прекращена редакционная подготовка «Избранных переводов». Одной из подспудных причин послевоенных гонений, возможно, были и сведения о новом романе. Первые четыре главы давались для прочтения знакомым и друзьям. Один экземпляр был с оказией переправлен сестрам в Англию.
После смерти Сталина журнал «Знамя» напечатал подборку стихотворений Пастернака из романа, Союз писателей устроил обсуждение перевода «Фауста» Гете, Николай Охлопков и Григорий Козинцев предлагали подготовить редакцию перевода для постановки. Публикация стихотворений в журнале предварялась авторским анонсом о романе, который «предположительно будет дописан летом», обозначены и его хронологические рамки – «от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне», назван герой – мыслящий врач Юрий Андреевич Живаго.
Новый, 1956 г. сулил много перемен. Доклад Хрущева на XX съезде КПСС с осуждением «культа личности» Сталина, казалось, перевернул страницу истории. С либерализацией общественной и культурной жизни появились предложения напечатать роман в журналах, отдельным изданием в Госиздате, куда были переданы рукописи. Сведения о романе стали просачиваться и за границу. Автор отдал рукопись романа для публикации в Варшаве и автору передачи на радио, члену итальянской компартии Серджио д"Анджело для миланского издателя-коммуниста Дж. Фельтринелли. В ответ на письмо издателя о желании перевести и опубликовать роман Пастернак дал согласие на публикацию, предупреждая, что «если обещанная многими журналами публикация романа здесь задержится и вы ее опередите, положение мое будет трагически трудным. Но мысли рождаются не для того, чтобы их таили или заглушали в себе, но чтобы быть сказанными».
Пока шли разговоры об издании, вновь началось «похолодание». Первыми его признаками стали «разъяснение» в печати, как следует правильно понимать решения XX съезда, и выведение на чистую воду «отдельных гнилых элементов», которые «под видом осуждения культа личности пытаются поставить под сомнение правильную политику партии». Вскоре появилось постановление Секретариата ЦК КПСС о журнале «Новый мир», осудившее поэму Твардовского «Теркин на том свете» и «неправильную линию журнала в вопросах литературы».
В сентябре журнал «Новый мир» отказался от публикации романа. В письме-рецензии, подписанном Лавреневым, Симоновым, Фединым и другими членами редколлегии, говорилось, что о публикации произведения «не может быть и речи». Главным препятствием были не эстетические расхождения с автором, а «дух неприятия социалистической революции», его убеждение, что «Октябрьская революция, Гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально».
1 декабря имя Пастернака уже фигурирует в записке Отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей». В записке сообщалось, что это произведение, отданное в журнал «Новый мир» и в Госиздат, «проникнуто ненавистью к советскому строю». В той же записке в числе «безыдейных, идеологически вредных произведений» упоминался роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», стихотворения Р. Гамзатова, Е. Евтушенко и др.
В ЦК КПСС еще питали надежду, что Пастернак после проведенных с ним «бесед» серьезно переработает роман и остановит его публикацию в Италии, поэтому Гослитиздат 7 января 1957 г. заключил с автором договор об издании «Доктора Живаго». О подоплеке подписания договора вспоминал главный редактор Гослитиздата Пузиков. В Гослитиздате началась работа редакторов по «излечению» «Доктора Живаго», хотя Пастернак откровенно написал главному редактору: «Я не только не жажду появления „Живаго“ в том измененном виде, который исказит или скроет главное существо моих мыслей, но не верю в осуществление этого издания и радуюсь всякому препятствию». Под давлением властей Пастернак согласился послать телеграмму Фельтринелли с просьбой не издавать роман до 1 сентября – даты выхода в свет романа в Москве.
Француженка Жаклин де Пруайяр, приезжавшая на стажировку в Московский университет, добилась у Пастернака разрешения ознакомиться с рукописью романа и предложила свою помощь в переводе его на французский язык для опубликования в издательстве «Галлимар». Пастернак написал Жаклин де Пруайяр доверенность для ведения дел по изданию своего романа за границей.
В июле появилась первая публикация двух глав и стихотворений в польском журнале «Opinii», переведенных редактором журнала поэтом Северином Полляком. Как только в конце августа информация об этом дошла до ЦК КПСС, по указанию секретаря ЦК Суслова Отдел культуры ЦК КПСС подготовил телеграмму советскому послу, в которой «польским товарищам» предлагалось прекратить публикацию и подготовить критические выступления в партийной печати. Еще раньше Секретариату Союза писателей были даны указания «принять меры».
Пастернак описал эту историю в письме от 21 августа к Нине Табидзе, вдове расстрелянного грузинского поэта Тициана Табидзе: «Здесь было несколько страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах, мне недоступных. Видимо, Хрущеву показали выборку всего самого неприемлемого в романе. Кроме того (помимо того, что я отдал рукопись за границу), случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут с большим раздражением. Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. Было еще несколько мне не известных осложнений, увеличивших шум.
Как всегда, первые удары приняла на себя О.В. [Ивинская]. Ее вызвали в ЦК и потом к Суркову. Затем устроили секретное расширенное заседание Секретариата Президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37-го года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы […]. На другой день О.В. устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра:
[…] Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое.
П[оликарпов] сказал, что сожалеет, что прочел такое письмо, и просил О.В. разорвать его на его глазах. Потом с П. говорил я, на другой день после этого разговора разговаривал с Сурковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьезно и сурово, но вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, то есть передоверить переговоры с Фельтринелли Гослитиздату, и отправил просьбу о возвращении рукописи для переработки».
Нажим на писателя усилился с разных сторон. Ольга Ивинская упросила Серджио д"Анджело воздействовать на Пастернака, чтобы тот подписал требуемую телеграмму Фельтринелли. Их усилия в конце концов увенчались успехом. Текст телеграммы, составленной в ЦК, он подписал. Одновременно через молодого итальянского слависта Витторио Страда, приехавшего на Московский фестиваль молодежи и студентов, он передал Фельтринелли, чтобы тот не обращал внимания на телеграмму и готовил издание романа.
В Москву приехал итальянский переводчик романа Пьетро Цветеремич, во внутренней рецензии для Фельтринелли оценивший роман как «явление той русской литературы, которая живет вне государства, вне организованных сил, вне официальных идей. Голос Пастернака звучит так же, как звучали в свое время голоса Пушкина, Гоголя, Блока. Не опубликовать такую книгу – значит совершить преступление против культуры».
ЦК не оставлял попыток остановить издание. К этому было подключено Всесоюзное объединение «Международная книга», торговые представители СССР во Франции и Англии. Алексей Сурков в октябре 1957 г. был послан в Милан для переговоров с Фельтринеллли и с очередным «письмом» Пастернака. Федор Панферов, проходивший курс лечения в Оксфорде, завязал знакомство с сестрами Пастернака и запугивал их тяжелыми последствиями, которые может вызвать публикация романа в издательстве «Коллинз».
Пастернак писал 3 ноября Жаклин де Пруайяр: «Как я счастлив, что ни Г[аллимар], ни К[оллинз] не дали себя одурачить фальшивыми телеграммами, которые меня заставляли подписывать, угрожая арестом, поставить вне закона и лишить средств к существованию, и которые я подписывал только потому, что был уверен (и уверенность меня не обманула), что ни одна душа в мире не поверит этим фальшивым текстам, составленным не мною, а государственными чиновниками, и мне навязанными. […] Видели ли Вы когда-нибудь столь трогательную заботу о совершенстве произведения и авторских правах? И с какою идиотскою подлостью все это делалось? Под гнусным нажимом меня вынуждали протестовать против насилия и незаконности того, что меня ценят, признают, переводят и печатают на Западе. С каким нетерпением я жду появления книги!»
В ноябре 1957 г. роман увидел свет. Выход романа поднял бурю зарубежных публикаций. В западной прессе стала обсуждаться возможность выдвижения Пастернака на Нобелевскую премию. Альбер Камю 9 июня 1958 г. писал Пастернаку, что в его лице он нашел ту Россию, которая его питает и дает ему силы. Писатель прислал издание своих «Шведских речей», в одной из которых он упоминал «великого Пастернака», а позднее как нобелевский лауреат поддержал выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию 1958 г.
Но пока непреодолимым препятствием для такого выдвижения казалось отсутствие издания романа на языке оригинала. Здесь неожиданная помощь пришла со стороны голландского издательства «Мутон», начавшего в августе 1958 г. печатать роман на русском языке. Считая издание незаконным, Фельтринелли потребовал, чтобы на титульном листе проставили гриф его издательства. Было напечатано только 50 экземпляров (Фельтринелли, разослав их по издательствам, обеспечил себе всемирные авторские права). Так были устранены юридические препятствия для выдвижения кандидатуры Пастернака.
Пастернак предчувствовал, чем может для него закончиться история с изданием романа. 6 сентября 1958 г. он писал Жаклин де Пруайяр: «Вы должны выработать свое отношение к тем неподвластным нам изменениям, которым подвергаются иногда наши планы, самые, казалось бы, точные и неизменные. При каждой такой перемене возобновляются крики о моем страшном преступлении, низком предательстве, о том, что меня нужно исключить из Союза писателей, объявить вне закона… Я боюсь только, что рано или поздно меня втянут в то, что я мог бы, пожалуй, вынести, если бы мне было отпущено еще пять-шесть лет здоровой жизни».
На Старой площади загодя готовились к этому событию. 23 октября Пастернак получил телеграмму от секретаря Нобелевского фонда А. Эстерлинга о присуждении ему премии и отправил телеграмму, в которой благодарил Шведскую академию и Нобелевский фонд: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен». В тот же день Президиум ЦК КПСС по записке Суслова принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», в котором присуждение премии признавалось «враждебным по отношению к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны». В «Правде» был опубликован фельетон Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» и редакционная статья «Провокационная вылазка международной реакции».
Одним из пунктов кампании было предложение Суслова: «…через писателя К. Федина объяснить Пастернаку обстановку, сложившуюся в результате присуждения ему Нобелевской премии, и посоветовать Пастернаку отклонить премию и выступить в печати с соответствующим заявлением». Переговоры с Пастернаком не принесли результатов, и было назначено заседание правления Союза писателей с повесткой «О действиях члена СП СССР Б. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя».
25 октября состоялось заседание партийной группы президиума СП, 27-го – совместное заседание президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР.
В отчете ЦК о заседании скрупулезно сообщалось, кто из писателей и по какой причине отсутствовал. Сообщалось, что по болезни отсутствовали Корнейчук, Твардовский, Шолохов, Лавренев, Гладков, Маршак, Тычина. По неизвестной причине уклонились от участия в этом «мероприятии» писатель Леонид Леонов и драматург Николай Погодин. Подчеркивалось, что на заседание не пришел сказавшийся больным Всеволод Иванов.
Николай Грибачев и Сергей Михалков, по своей ли инициативе или по подсказке свыше, заявили о необходимости выслать Пастернака из страны. Решение товарищей по литературному цеху было предрешено. Давление властей и предательство друзей вызвали у писателя нервный срыв. В этом состоянии Пастернак отправил две телеграммы. Одну в Нобелевский комитет: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Другую – в ЦК: «Благодарю за двукратную присылку врача. Отказался от премии. Прошу восстановить Ивинской источники заработка в Гослитиздате. Пастернак».
История о том, как и кем были написаны письма Пастернака к Хрущеву и в газету «Правда», демонстрирующие унижение писателя и торжество власти, освещена достаточно подробно.
Но пропагандистская кампания проклятий по адресу «литературного власовца» уже набрала обороты. Собратья-писатели, ученые и домохозяйки, рабочие и студенты дружно осуждали Пастернака и предлагали судить его как изменника родины. Но самый сюрреалистический образ родила фантазия секретаря ЦК ВЛКСМ Семичастного, будущего председателя КГБ. По подсказке Хрущева он, заявив о том, что Пастернак может оправляться за границу, сравнил поэта со свиньей, которая гадит там, где ест.
Толки о предстоящей высылке доходили до Пастернака. Он обсуждал такую возможность с близкими ему людьми – с женой З.Н. Пастернак и Ольгой Ивинской. Сохранились черновые наброски письма Пастернака с благодарностью властям за разрешение выехать с семьей и с просьбой выпустить вместе с ним О.В. Ивинскую с детьми. Сын писателя пишет, что З.Н. Пастернак отказалась уезжать. КГБ позднее информировал ЦК о том, что Ивинская «несколько раз высказывала желание выехать с Пастернаком за границу».
11 января 1959 г. Пастернак послал письмо во Всесоюзное управление по охране авторских прав. В нем он просил разъяснить, будут ли ему давать работу, как об этом говорилось в официальных заявлениях, «потому что в противном случае [...] придется искать иного способа поддерживать существование» (речь шла о возможности получения части зарубежных гонораров).
В это время написано знаменитое стихотворение «Нобелевская премия»:
Это стихотворение стало поводом для нового обострения отношений с властью. Автограф стихотворения был предназначен Жаклин де Пруайяр и передан английскому корреспонденту Энтони Брауну, который опубликовал его в газете «Daily Mail».
Как вспоминает сын писателя, 14 марта, прямо с прогулки, Пастернака забрала казенная машина и отвезла в Генеральную прокуратуру. Генеральный прокурор Руденко, посылая протокол допроса в Президиум ЦК, специально подчеркнул: «На допросе Пастернак вел себя трусливо. Мне кажется, что он сделает необходимые выводы из предупреждения об уголовной ответственности». Прокуратура потребовала от писателя письменного обязательства прекратить всякие встречи с иностранцами и передачу за границу своих произведений, а, возможно, и вообще прекратить свою зарубежную переписку. По воспоминаниям сына, Пастернак рассказал о допросе своим близким: «Я сказал, что могу подписать только то, что я читал их требование, но никаких обязательств взять на себя не могу. Почему я должен вести себя по-хамски с людьми, которые меня любят, и расшаркиваться перед теми, которые мне хамят».
30 марта 1959 г. Пастернак писал Жаклин де Пруайяр: «Мой бедный дорогой друг, мне надо сказать Вам две вещи, которые решительным образом изменили мое теперешнее положение, еще более стеснив его и отягчив. Меня предупредили о тяжелых последствиях, которые меня ждут, если повторится что-нибудь подобное истории с Энт. Брауном. Друзья советуют мне полностью отказаться от радости переписки, которую я веду, и никого не принимать.
Две недели я пробовал это соблюдать. Но это лишение уничтожает все, ничего не оставляя. Подобное воздержание искажает все составные элементы существования, воздух, землю, солнце, человеческие отношения. Мне сознательно стало ненавистно все, что бессознательно и по привычке я до сих пор любил».
В следующем письме (19 апреля 1959 г.) он писал: «Вы недостаточно знаете, до каких пределов за эту зиму дошла враждебность по отношению ко мне. Вам придется поверить мне на слово, я не имею права и это ниже моего достоинства описывать Вам, какими способами и в какой мере мое призвание, заработок и даже жизнь были и остаются под угрозой».
В одном из писем Жаклин де Пруайяр он поделился своим предчувствием: «…мне так мало осталось жить!» Сердце поэта остановилось 30 мая 1960 г.
О смерти Пастернака оповестило крохотное объявление на последней странице «Литературной газеты»: «Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с.г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного». И здесь власть осталась верна себе. Но скрыть время и место похорон не удалось. Зарисовку похорон дает записка Отдела культуры ЦК КПСС от 4 мая, но она во многом, прежде всего в оценке числа провожавших, расходится с собранными воспоминаниями. Хотя на похоронах и не произносилось громких речей, они вошли в историю как свидетельство гражданского мужества тех, кто пришел на кладбище в Переделкине.
Публикуемые документы выявлены в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ). Часть документов предоставлена Архивом Президента РФ.
Впервые документы из фондов ЦК КПСС увидели свет в отдельном издании, выпущенном в Париже издательством «Галлимар» в начале 1990-х гг. Тогда же планировалась до сих пор не осуществленная публикация сборника издательством Фельтринелли в Италии. Некоторые из документов опубликованы на русском языке в периодической печати.
Все документы впервые собраны воедино и изданы на русском языке издательством «РОССПЭН» в 2001 г. Настоящая публикация основана на этом издании. Для публикации текст документов был выверен заново, подготовлен дополнительный комментарий, написана вступительная статья. Текст документов в публикации передается, как правило, полностью. Если документ в основном посвящен другой теме, то часть текста документа при публикации опускается и обозначается отточиями в квадратных скобках. Резолюции, пометы, справки располагаются после текста документа, перед легендой. Несколько резолюций выявлено не на самих документах, а по делопроизводственным карточкам, которые заводились в Общем отделе ЦК на каждый документ, поступавший на Старую площадь. Заголовки к документам даны составителями, если использовался текст документа, то он помещен в кавычках. В легенде указываются архивный шифр, подлинность или копийность. Отмечаются также предшествующие публикации, за исключением публикаций в газетах и в сборнике «А за мною шум погони…», на основе которого подготовлена данная публикация.
Вступительная статья В.Ю. Афиани. Подготовка публикации В.Ю. Афиани, Т.В. Дормачевой, И.Н. Шевчука.
Непарадные портреты - Евгений Евтушенко
Это интервью записывалось в два захода. Первый раз мы говорили с поэтом, который сейчас живет и работает в США (Евгений Александрович преподает историю кино в университете города Талса , штат Оклахома), когда он посмотрел первые две серии фильма. Начало ему весьма понравилось…
"СНАЧАЛА ЭТА КАРТИНА ТРОНУЛА МЕНЯ ДО СЛЕЗ"
Евгений Александрович, Первый канал показывает сериал, снятый по одноименному роману Василия Аксенова «Таинственная страсть». Там под вымышленными, но узнаваемыми именами выведены многие герои эпохи оттепели, в том числе, и вы под именем Яна Тушинского.
Привет! Фильм довольно симпатичный, хотя, честно я скажу - книга в общем мне не понравилась. Вася Аксенов очень хороший лирический писатель. Но это не самая лучшая его вещь. В ней слишком много гротеска, хохмачества и уж много слишком придуманного.
Режиссеры Константин Эрнст и Денис Евстигнеев правильно сделали, что освободились от давления книги. Они оставили все, что там было лучшее, но они равнялись даже не столь на это произведение, сколько на свое представление о времени. Потому что в тексте Аксенова очень много такого… как бы вам сказать… там есть элемент привкуса обиды автора на то, что он вынужден был уехать из страны. Есть такой привкус. Есть.
(Евгений Александрович не совсем точен. Режиссер этого фильма - Влад Фурман, а Денис Евстигнеев - продюсер. Продюсерами также являются Константин Эрнст и Марина Гундорина (исп.), сценарист - Елена Райская.- Авт.)
Кстати, хочу сказать - вот никто не знает - одну интересную вещь. Я тогда был очень близок к молодому театру «Современник». И Галя Волчек, в то время ведущая актриса театра, присутствовала, когда я впервые читал в Москве поэму «Бабий яр», которая стала скандальным событием тогда. Галя была на сносях, последний месяц беременности. И она родила сына. Сын ее стал режиссером Денисом Евстигнеевым. И он сделал эту картину! Как все связалось, а? Это поразительно!
"ЭПОХА ВОССТАНОВЛЕНА ГЕНИАЛЬНО"
- А как вам образы поэтов в фильме - ваших друзей? Понравились?
Слава Богу, что они оставили Окуджаву в исполнении Окуджавы. Да, это очень правильно было сделано. Мне понравился Сергей Безруков , который воплотил образ Владимира Высоцкого . И я горд за него. Актер перевоплотился в Высоцкого, хотя физически, может быть, они и не совсем похожи, но психологически - да, и он прочитал монолог Гамлета гениально просто. Восстановлена эпоха. Кстати, мало кто знает, что я был первым человеком, который снял этого актера в кино, в моем фильме «Похороны Сталина ». (Это было в 1990 году, 17-летний Безруков сыграл в эпизоде роль беспризорника. - Авт.)
- Эпоха правильно показана или нет?
Да, да, время восстановлено абсолютно правильно. Не случайно они начинают с моего стихотворения "Танки идут по Праге ". Наше поколение - за что мы боролись? Мы не были врагами Советской власти. Нас хотели сделать врагами своей страны, но не получилось. Мы были романтиками социализма, понимаете? И то, что произошло в Праге, нас очень трогало – потому что, как мы понимали, там боролись за социализм с человеческим лицом, которого и мы хотели.
И когда мне говорили, что моя позиция - это непатриотический поступок, меня это совершенно не волновало. Я знал, что делаю это во имя репутации моей собственной Родины. Кто-то должен был сказать, что это ошибка – то, что сделало наше правительство. Я тогда сказал, что я боюсь, что после этих танков трудно будет восстановить социализм в Восточной Европе . Ну, и кто же оказался прав?
- А образ Евтушенко, то есть Яна Тушинского, вам как?
Это труднее всего - оценить собственный образ. Беллу-то я сразу узнал. А самого себя трудно узнать, но мне понравилось. Филипп Янковский звонил, когда ему предложили эту роль. Мы были хорошие друзья с Олегом Янковским, его отцом. И Филипп был воспитан на моих стихах. И вот он мне сразу, когда ему дали эту роль, звонил много раз и говорил о том, как он волнуется. И я ему сказал, что мне не нравится в этом образе в книге – тот самый гротеск, понимаете? Филипп замечательно сыграл свою роль. Он сделал все, чтобы снять вот этот гротесковый, хохмаческий налет с образа Евтушенко - Яна Тушинского.
- А вы что, действительно стрелялись с Вознесенским? На пистолетах?
Никогда такого не было! Бывало, что мы ссорились, но, во-первых, никто из нас не носил револьверов. Их ни у кого не было. Это фантазия. И второе. Никогда у нас не было драк между собой. Никогда! Понимаете? Если ссорились, ну, бывает это всегда, но не до того, чтобы, так сказать, бить друг друга по морде. У нас были нежнейшие отношения. Если мы влюблялись, то мы влюблялись очень нежно. Не были мы никакими донжуанами, вот поверьте мне.
"В АХМАДУЛИНУ БЫЛИ ВЛЮБЛЕНЫ ВСЕ"
- Не верим, не верим, что вы не были донжуаном…
Ну, а вот я говорю, что не были, не были! Это не главное было в нашей жизни… Что важно, авторы фильма отделили, как говорится, сорняки от настоящих цветов нашего поколения. Оно было, может быть, наивное, но оно было нежное. Мы были нежными друг с другом. Вася Аксенов был влюблен в Беллу. И Вознесенский… В Беллу были влюблены все, понимаете или нет?
- Думаем, что понимаем!
Она настолько была очаровательна! Кстати, один из моих страхов был – это способна ли будет какая-то актриса восстановить обаяние Беллы? Вот я уж, все-таки она была моей женой, любимой женщиной, я посвятил ей свои лучшие стихи, вот. И меня с ней ссорили, но она никогда не ссорилась со мной. Никогда!
- То есть, образ ее…
И вот представьте себе, слушайте, слушайте... И вот Чулпан Хаматова - я был потрясен! Я вдруг увидел как будто воскресшую Беллу, понимаете? Актриса гениально ее показала! Это типичная, немножко высокопарная, речь Беллы, когда она говорила. Замечательно, когда она разговаривает с милиционерами, выручая нас из милиции (чего, кстати, в реальности тоже не было! - но это не имеет значения). Это могло быть. Чулпан замечательна, у нее , у Беллы, был особый какой-то взгляд... она поднимала высоко подбородок, вот куда -то у нее глаза всегда были устремлены выше облаков, понимаете, всегда! Я честно скажу – в некоторых местах я просто плакал. (Евтушенко замолкает).
Да, правильно. Я заплаканный смотрел эту картину. Она меня очень тронула.
"А ПОТОМ ОНИ ПЛЮНУЛИ В МОЮ ЛЮБОВЬ"
Евгений Александрович совершенно искренне восторгался фильмом. Но тут связь прервалась. А когда через несколько часов мы снова дозвонились в Америку , тон у Евгения Александровича был совсем другой…
Я посмотрел третью часть… Я потрясен одним эпизодом, который бросает на меня тень. Конечно, можно говорить, что в фильме действует не Евтушенко, а Ян Тушинский, но, простите меня, во-первых, расшифрованы все эти фамилии, во-вторых, этот герой читает мои стихи – "Поэт в России больше, чем поэт» и другие опусы - значит, люди проецируют этого героя на меня.
- О чем вы, Евгений Александрович?
Вдруг появляется эпизод, где утверждается, что я – в числе тех, кто выступил против Пастернака.
- Но это же не так!
Конечно, не так! Было письмо студентов литинститута с требованием вышвырнуть Пастернака как недостойного гражданина нашей страны, лишить его советского гражданства. И Белла, и я, мы с самого начала отказались его подписывать. А мне это было очень трудно, потому что я был тогда секретарем комсомольской организации. Я писал в своих мемуарах, и другие, все, кто исследовал мои работы, они знают, что меня потащил секретарь парткома…

Стихотворение "Сон"
- И что?
Меня никто не мог заставить выступить против Пастернака, Когда я пришел к секретарю горкома комсомола Мосину, он мне говорит - а почему вы не хотите присоединиться? Я его спросил – а вы читали роман "Доктор Живаго "? Он сказал – откуда же я его возьму? Достать роман было невозможно. А я говорю – а он мне дал сам, и я прочел его. Там нет ни одной строчки против страны, проникнутой ненавистью, в чем Пастернака обвиняли… И меня сейчас - в фильме - обвиняют в том, в чем я не участвовал! Это всем известно. И Пастернак мне подарил книгу, когда я навещал его во время опалы. У меня были очень большие неприятности после этого…
Что же вы делаете? Обращаюсь к авторам фильма... Я единственный живой из всей этой плеяды, из них уже никто не может заступиться за меня, но все они это знали, все знают, и можно спросить кого угодно об этом. Даже мои враги никогда этого мне не приписывали.
- В фильме Белла обвиняет Яна в трусости …
Ну, как они могли? Ну, как она могла, актриса, вот эта женщина, с нежной головой, исполнить, так сказать, это обвинение и назвать меня трусом? Просто жуть, что они сделали! Они плюнули в мою любовь! В фильме получается так, что Белла хочет защитить Пастернака и предлагает мне идти в институт и защищать его, а я отказываюсь трусливо. Но этого никогда не было! Даже в самом последнем интервью Изабеллы Ахатовны в «Аргументах и фактах» она сказала, что счастлива навсегда, что ее учителями были такие поэты, в эпоху которых она жила: как Окуджава, Вознесенский и Евтушенко. Вы понимаете, мы никогда с ней не ссорились вообще, хотя и разошлись. И Маша (супруга Евгения Евтушенко - Авт.) с ней дружила. Простите меня, но я требую, чтобы эти кадры были выкинуты, демонтированы из фильма, потому что это страшное оскорбление. Самое страшное! Если авторы не выбросят этот кусок и не извинятся, тогда я подам в международный суд на телевидение.
ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОЭТ
"Мне позвонил Хрущев : "Приходи с женой - вместе встретим Новый год". И "Хотят ли русские войны" споем"...
Ошибка еще есть одна в фильме.
- Какая, Евгений Александрович?
Когда перечисляли события во времена Хрущева, за которые он несет ответственность, авторы сделали одну очень большую историческую ошибку. Они даже не упомянули ХХ съезд партии, когда Хрущев осудил сталинские преступления против собственного народа. Хрущев не был одноцветным, он был сложным правителем. Потому что, когда Никита Сергеевич атаковал нас всех, то одновременно дал Эрнсту Неизвестному, например, заказ в Зеленограде . То есть, поддержал его.
А меня тогда не хотели пускать в Германию , куда я был приглашен. А Хрущев лично позвонил мне и сказал, чтобы мы с женой приходили (на правительственный банкет. - Авт.) Новый год встречать. Я, говорит, к вам подойду, обниму вас, чтобы все видели. А не то, говорит, они подумают, что если мы с вами спорили, значит, я против молодежи…
- Хрущев лично вам позвонил?
Да, он сам сказал – приходите. Я, говорит, подойду к вам ночью, после банкета, мы будем исполнять вашу песню - «Хотят ли русские войны?».
- И так и было все?
Да, он пел мою песню, потом ко мне подошел, специально остановился около моего стола, обнял меня… Это было после того, как я выступил против него - когда он напал на Эрнста Неизвестного. И, кстати, потом, когда Хрущева свергли, он мне однажды позвонил и пригласил на день рождения свой. Да. Я ездил к нему. И долго мы с ним разговаривали. И он мне сказал: «Я прошу вас передать всем писателям мои глубокие извинения за мои грубости, которые я говорил. На меня тогда стали нападать за то, что я позволяю молодым писателям раскачивать корабль". Вот. "А кораблю хорошему, - он сказал тогда, - это только придает силы".
- Евгений Александрович, это же надо все доснимать. Вы можете сказать Денису Евстигнееву…
Не надо ничего снимать. Вот я вам рассказываю – напечатайте в «Комсомолке». Никита Сергеевич мне сказал: «Давайте уж по совести. Все-таки я не позволил, чтобы даже волос с вашей головы упал." Это было правда.