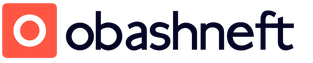Создатель энциклопедии советской жизни для варлама шаламова. Биография
Он начинал свой творческий путь с написания стихов. Стал известен благодаря публицистическому циклу, посвящённому жизни заключённых. Биография Шаламова отражена в его творчестве, прежде всего в книгах «Несколько моих жизней», «Четвертая Вологда». Сборник, принесший писателю мировую известность, - «Колымские рассказы».
Для того чтобы узнать больше о биографии Шаламова, следует, конечно, ознакомиться с его книгами. А именно прочитать «Колымские рассказы», «Четвёртую Вологду», сборник стихотворений «Колымские тетради». В этой же статье приведены основные факты из биографии Шаламова.
Сын священника
На детство и юность будущего писателя пришлось и счастливое время, и трагическое. Судьба Шаламова не щадила. Но вопреки всему он до последних дней своей жизни оставался человеком.
Шаламов Варлам Тихонович родился в 1907 году, в семье потомственного священнослужителя. Он хорошо помнил Первую мировую войну. Воспоминания детства отражены в вышеупомянутой книге «Несколько моих жизней». Оба брата Шаламова были на войне. Один из них погиб. После его смерти отец ослеп. Тихон Шаламов пережил старшего сына на целых тринадцать лет.
Ранние годы
Семья была дружной, с прочными семейными традициями. Писать стихи Варлам Шаламов начал очень рано. Отец поддерживал в сыне любовь к литературе. Однако вскоре родительской библиотеки мальчику стало недостаточно.
Юношеским идеалом Шаламова стали народовольцы. Он восхищался их жертвенностью, героизмом, проявляющимся в сопротивлении мощи самодержавного государства. Стоит сказать, что уже в ранние годы будущий писатель демонстрировал удивительную одарённость. В одной из книг Шаламов сказал, что безграмотным себя не помнит. Читать он научился в три года.
В отрочестве его больше всего привлекали приключенческие произведения Дюма. Позже диапазон литературы, вызывающей в будущем прозаике неуемный интерес, удивительно расширился. Он стал читать всё: начиная от Дюма, заканчивая Кантом.

Годы учебы
В 1914 году Шаламов поступил в гимназию. Завершить средние образование ему удалось лишь после революции. Спустя десять лет после поступления в гимназию будущий писатель переехал в столицу. В Москве он два года работал дубильщиком на кунцевском заводе. А в 1926 году поступил в МГУ, на факультет советского права.
Подавая документы в университет, Шаламов скрыл свое социальное происхождение. Он не указал, что принадлежит к семье, в которой мужчины из поколения в поколение были священниками. За что и был исключен.
Первое заключение
Первый арест Варлама Шаламова произошел в феврале 1929 года. Молодой поэт был задержан при облаве подпольной типографии. После этого события к Шаламову был прикреплен ярлык «социально опасный элемент». Последующие три года он провел в лагерях. Этот период Шаламов работал на строительстве химкомбината под руководством человека, впоследствии ставшего начальником колымского "Дальстроя".

Второй арест
В 1931 году Шаламов был освобождён из исправительно-трудового лагеря. Некоторое время он работал в профсоюзных журналах «За овладение техникой» и «За ударничество». В 1936 году опубликовал первое прозаическое произведение «Три смерти доктора Аустино».
На 1937 год пришлась новая волна репрессий. Не миновала она и Варлама Шаламова. Писатель был арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Шаламова вновь поместили в Бутырскую тюрьму, он был осужден на пять лет. В начале августа его с большой партией заключенных на пароходе отправили в Магадан. В течение года он работал в золотодобывающих забоях.
Срок Шаламова был увеличен в декабре 1938 года. Его арестовали по лагерному «делу юристов». С 1939 он работал на прииске «Черная река», а также в угольных забоях. В «Колымских рассказах» Шаламов не только рассказал о быте заключённых, но и поведал о душевном состоянии человека, длительное время лишенного свободы.

Жизнь заключенных в произведениях Шаламова
Главные составляющие существования зэка - бессонница, голод, холод. В такой обстановке не завязывалась никакая дружба. По мнению Шаламова, привязанность, взаимное уважение могли быть заложены лишь на свободе. В лагере человек лишался всего человеческого, в нём оставались лишь злоба, недоверие и ложь.
Большое распространение имели доносы в лагерях. Имели они место и на свободе. Второй срок Шаламова заканчивался в 1942 году. Но его не освободили: вышло постановление, согласно которому заключенные должны были находиться в лагере до окончания войны. В мае 1943 года Шаламов был арестован. Причиной его несчастья на этот раз стала похвала в адрес писателя Ивана Бунина. Арестован Шаламов был по доносу солагерников. Спустя месяц приговорён к десяти годам заключения.

Фельдшер
В 1943 году Шаламов попал под категорию так называемых доходяг - зэков, находящихся на последней стадии физического истощения. В этом состоянии он попал в лагерную больницу, после выписки работал несколько лет на прииске «Спокойный».
В больницу Шаламов попадал несколько раз. Так, 1946 году его госпитализировали с подозрением на дизентерию. Благодаря одному из врачей Шаламов после выздоровления был направлен на курсы фельдшеров в больницу, расположенную в двадцати трех километрах от Магадана. После окончания учебы он работал в хирургическом отделении. Фельдшером он работал ещё несколько лет после освобождения.
Срок заключения был окончен в 1951 году. Приблизительно в это время Шаламов отправил Борису Пастернаку сборник своих стихов. В 1953 году, возвратившись в Москву, Шаламов встретился с родственниками. Пастернак помог ему установить контакты в литературном мире. В 1954 году Варлам Шаламов начал работу над «Колымскими рассказами».

Семья
В середине пятидесятых Шаламов развёлся с Галиной Гудзь, брак с которой был заключён в 1932 году. Писатель всего был женат дважды. В 1956 он заключил брак с Ольгой Неклюдовой. В первом браке у прозаика родилась дочь Елена. С Неклюдовой - детской писательницей - Шаламов развелся в 1965 году. В этом браке детей не было. У Неклюдовой был сын, ставший впоследствии известным фольклористом.
Последние годы
Биография Шаламова включает двадцать лет лагерей. Пребывание в заключении не прошло бесследно. В конце пятидесятых он перенес тяжелое заболевание, долгое время лечился в Боткинской больнице. После выздоровления издал сборник стихов «Огниво». А спустя три года - «Шелест листьев».
В конце 70-х писатель начал резко терять слух, зрение, способность к координации движений. В 1979 году Шаламова направили в пансионат для престарелых и инвалидов. Спустя два года он перенес инсульт. В 1982 году Шаламов был обследован, в результате чего переведён в интернат для психохроников. Однако во время транспортировки автор «Колымских рассказов» простудился, заболел пневмонией. Умер Шаламов Варлам Тихонович 17 января 1982 года. Похоронен на Кунцевском кладбище. На могиле писателя позже установили памятник скульптора Федота Сучкова.
Творчество Шаламова
Выше упомянуто знакомство героя сегодняшней статьи с автором «Доктора Живаго». Стихи Варлама Шаламова Пастернак высоко ценил. Поэтов связывала многолетняя дружба. Однако после того как Пастернак отказался от Нобелевской премии, их пути разошлись.
Среди поэтических сборников, созданных Варламом Шаламовым, помимо вышеупомянутых, стоит назвать также «Московские облака», «Точку кипения», цикл «Дорога и судьба». В «Колымские тетради» вошло шесть стихотворений и поэм. К прозаическим произведениям Варламова Шаламова относятся антироман «Вишера» и повесть «Фёдор Раскольников». В 2005 году на экраны вышел фильм, снятый по мотивам «Колымских рассказов». Творчеству и биографии Шаламова посвящено несколько документальных кинолент.
«Колымские рассказы» впервые были опубликованы на Западе. Следующий раз этот сборник опубликовали спустя четыре года в Лондоне. И первое, и второе издание «Колымских рассказов» Шаламова осуществлено было против его воли. При жизни писателя ни одно из его произведений, посвященных ГУЛАГу, не вышло.

«Колымские рассказы»
Произведения Шаламова пропитаны реалистичностью, несгибаемым мужеством. Каждая из историй, включённых в «Колымские рассказы», достоверна. Сборник рассказывает о жизни, которую пришлось пережить большому количеству людей. И лишь единицы из них (Варлам Шаламов, Александр Солженицын) смогли, нашли в себе силы поведать читателям о безжалостных сталинских лагерях.
В «Колымских рассказах» Шаламов поднял основной нравственный вопрос советской эпохи. Писатель раскрыл ключевую проблему того времени, а именно противостояние личности тоталитарному государству, не щадящему человеческих судеб. Сделал он это посредством изображения быта заключённых.
Герои рассказов - люди, сосланные в лагеря. Но Шаламов не только поведал о суровых, бесчеловечных, несправедливых наказаниях, которыми они подвергались. Он показал, в кого превращается человек вследствие длительного заключения. В рассказе «Сухим пайком» эта тема раскрыта особенно ярко. Автор рассказал о том, насколько гнёт государства подавляет личность, растворяет его душу.
В обстановке постоянного голода, холода, люди превращаются в зверей. Они уже ничего не осознают. Они желают лишь тепла и еды. Главными ценностями становятся элементарные вещи. Заключенным управляет тупая и ограниченная жажда жизни. Сам же автор утверждал, что "Колымские рассказы" - это попытка решить некие важные нравственные вопросы, которые просто не могут быть разрешены на любом другом материале.
ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ
Этот человек обладал редкой особенностью: один глаз его был близоруким, другой - дальнозорким. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно. И запоминать. Память у него была удивительная. Он помнил множество исторических событий, мелких бытовых фактов, лиц, фамилий, имен, жизненных историй, когда-либо услышанных.
В. Т. Шаламов родился в Вологде в 1907 году. Он никогда не говорил, но у меня сложилось представление, что он родился и вырос в семье священнослужителя или в семье очень религиозной. Он до тонкостей знал православие, его историю, обычаи, обряды и праздники. Он не был лишен предрассудков и суеверий. Верил в хиромантию, например, и сам гадал по руке. О своем суеверии он не раз говорил и в стихах, и в прозе. Одновременно он был хорошо образован, начитан и до самозабвения любил и знал поэзию. Все это уживалось в нем без заметных конфликтов.
Мы познакомились с ним ранней весной 1944 года, когда солнышко стало уже пригревать и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений.
В центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горнопромышленного района, я работал фельдшером двух хирургических отделений, чистого и гнойного, был операционным братом двух операционных, ведал станцией переливания крови и урывками организовывал клиническую лабораторию, которой в больнице не было. Свои функции я выполнял ежедневно, круглосуточно и без выходных дней. Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из забоя и был непомерно счастлив, обретя работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того, обретал надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во втором терапевтическом отделении, где с диагнозом алиментарная дистрофия и полиавитаминоз находился Шаламов уже несколько месяцев.
Шла война. Золотые прииски Колымы были для страны «цехом номер один», и само золото называлось тогда «металлом номер один». Фронту нужны были солдаты, приискам - рабочая сила. Это было время, когда колымские лагеря уже не пополнялись столь щедро, как прежде, в довоенное время. Пополнение лагерей с фронта еще не началось, не началось пополнения пленными и репатриированными. По этой причине восстановлению рабочей силы в лагерях стали придавать большое значение.
Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясцо на костях. Его крупная, долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше.
Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какие статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи, проявляю ли к ним интерес. Я рассказал ему, что жил в Москве, учился в Третьем московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М. С. Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки - или почти все - были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось чтение стихов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился. Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею помочь.
Главным врачом больницы была в то время молодой энергичный врач Нина Владимировна Савоева, выпускница 1-го Московского медицинского института 1940 года, человек с развитым чувством врачебного долга, сострадания и ответственности. При распределении она добровольно выбрала Колыму. В больнице на несколько сот коек она знала каждого тяжелого больного в лицо, знала о нем все и лично следила за ходом лечения. Шаламов сразу попал в поле ее зрения и не выходил из него, пока не был поставлен на ноги. Ученица Бурденко, она была еще и хирургом. Мы ежедневно встречались с ней в операционных, на перевязках, на обходах. Ко мне она была расположена, делилась своими заботами, доверяла моим оценкам людей. Когда среди доходяг я находил людей хороших, умелых, работящих, она помогала им, если могла - трудоустраивала. С Шаламовым оказалось все много сложнее. Он был человеком, люто ненавидевшим всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный - всякий. Это было его органическим свойством. Конторской работы в больнице не было. На какую бы хозяйственную работу его ни ставили, напарники на него жаловались. Он побывал в бригаде, которая занималась заготовкой дров, грибов, ягод для больницы, ловила рыбу, предназначенную тяжело больным. Когда поспевал урожай, Шаламов был сторожем на прибольничном большом огороде, где в августе уже созревали картофель, морковь, репа, капуста. Жил он в шалаше, мог ничего не делать круглые сутки, был сытым и всегда имел табачок (рядом с огородом проходила центральная Колымская трасса). Был он в больнице и культоргом: ходил по палатам и читал больным лагерную многотиражную газету. Вместе с ним мы выпускали стенную газету больницы. Он больше писал, я оформлял, рисовал карикатуры, собирал материал. Кое-что из тех материалов у меня сохранилось по сей день.
Тренируя память, Варлам записал в двух толстых самодельных тетрадях стихи русских поэтов XIX и начала XX веков к подарил те тетради Нине Владимировне. Она хранит их.
Первая тетрадь открывается И. Буниным, стихотворениями «Каин» и «Ра-Озирис». Далее следуют: Д. Мережковский - «Сакиа-Муни»; А. Блок - «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Петроградское небо мутилось,..»; К. Бальмонт - «Умирающий лебедь»; И. Северянин - «Это было у моря...», «В парке плакала девочка...»; В. Маяковский - «Нате», «Левый марш», «Письмо Горькому», «Во весь голос», «Лирическое отступление», «Эпитафия адмиралу Колчаку»; С. Есенин - «Не жалею, не зову, не плачу...», «Устал я жить в родном краю...», «Все живое особой метой...», «Не бродить, не мять...», «Пой мне, пой!..», «Отговорила роща золотая...», «До свиданья, друг мой...», «Вечер черные брови насопил...»; Н. Тихонов - «Баллада о гвоздях», «Баллада об отпускном солдате», «Гулливер играет в карты...»; А. Безыменский - из поэмы «Феликс»; С. Кирсанов - «Бой быков», «Автобиография»; Э. Багрицкий - «Весна» ; П. Антокольский - «Я не хочу забыть тебя...»; И. Сельвинский - «Вор», «Мотька Малхамувес»; В. Ходасевич - «Играю в карты, пью вино...»
Во второй тетради: А. С. Пушкин - «Я вас любил...»; Ф. Тютчев - «Я встретил вас, и все былое...»; Б. Пастернак - «Заместительница»; И. Северянин - «Отчего?»; М. Лермонтов - «Горные вершины...»; Е. Баратынский - «Не искушай меня...»; Беранже - «Старый капрал» (перевод Курочкина); А. К. Толстой - «Василий Шибанов»; С. Есенин - «Не криви улыбку...»; В. Маяковский - (предсмертное), «Сергею Есенину», «Александр Сергеевич, разрешите представиться - Маяковский», «Лилечке вместо письма», «Скрипка и немножко нервно»; В. Инбер - «Сороконожки»; С. Есенин - «Письмо матери», «О красном вечере задумалась дорога...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Я по первому снегу бреду...», «Не бродить, не мять...», «Никогда я не был на Босфоре...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Ты сказала, что Саади...» ; В. Маяковский - «Кемп «Нит Гедайге» ; М. Горький - «Песня о Соколе» ; С. Есенин - «В том краю, где желтая крапива...», «Ты меня не любишь, не жалеешь...».
Меня, провинциального паренька, такая поэтическая эрудиция, удивительная память на стихи поражала и глубоко волновала. Мне жаль было этого даровитого человека, игрою недобрых сил выброшенного из жизни. Я им искренне восхищался. И делал все, что было в моих силах, чтобы оттянуть его возвращение на прииски, эти полигоны уничтожения. На Беличьей Шаламов пробыл до конца 1945 года. Два с лишним года передышки, отдыха, накопления сил, для» того места и того времени - это было немало.
В начале сентября наш главный врач Нина Владимировна была переведена в другое управление - Юго-Западное. Пришел новый главный врач - новый хозяин с новой метлой. Первого ноября я заканчивал свой восьмилетний срок и ждал освобождения. Врача А. М. Пантюхова к этому времени в больнице уже не было. Я обнаружил в его мокроте палочки Коха. Рентген подтвердил активную форму туберкулеза. Он был сактирован и отправлен в Магадан для освобождения из лагеря по инвалидности, с последующей отправкой на «материк». Вторую половину жизни этот талантливый врач прожил с одним легким. У Шаламова в больнице не оставалось друзей, не оставалось поддержки.
Первого ноября с маленьким фанерным чемоданчиком в руке я уходил из больницы в Ягодный получать документ об освобождении - «двадцать пятую форму» - и начинать новую «вольную» жизнь. До половины дороги меня провожал Варлам. Он был грустен, озабочен, подавлен.
После вас, Борис, - сказал он, - дни мои здесь сочтены.
Я его понимал. Это было похоже на правду... Мы пожелали друг другу удачи.
В Ягодном я задержался недолго. Получив документ, был направлен на работу в больницу Утинского золоторудного комбината. До 1953 года я не имел никаких вестей о Шаламове.
Особые приметы
Удивительно! Глаза, в которые я так часто и подолгу смотрел, не сохранились в памяти. Зато запомнились присущие им выражения. Они были светло-серыми или светло-карими, посажены глубоко и смотрели из глубины внимательно и зорко. Лицо его было почти лишено растительности. Небольшой и очень мягкий нос он постоянно мял и сворачивал набок. Казалось, что нос лишен костей и хрящей. Небольшой и подвижный рот мог вытягиваться в длинную тонкую полосу. Когда Варлам Тихонович хотел сосредоточиться, он сгребал губы пальцами и держал их в руке. Когда предавался воспоминаниям, выбрасывал руку перед собой и внимательно разглядывал ладонь, при этом его пальцы круто изгибались в тыльную сторону. Когда он что-то доказывал, выбрасывал обе руки вперед, разжав кулаки, и как бы подносил к вашему лицу на раскрытых ладонях свои аргументы. При его большом росте его рука, кисть ее была небольшой и не содержала даже малых следов физического труда и напряжения. Пожатие ее было вялым.
Он часто упирал язык в щеку, то в одну, то в другую и водил изнутри языком по щеке.
У него была мягкая, добрая улыбка. Улыбались глаза и чуть заметно рот, его уголки. Когда он смеялся, а это случалось редко, из груди его вырывались странные, высокие, словно рыдающие звуки. Одним из любимых его выражений было: «Душа из них вон!» При этом он рубил воздух ребром ладони.
Говорил он трудно, подыскивая слова, пересыпая речь междометиями. В его бытовой речи многое оставалось от лагерного бытия. Возможно, это была бравада.
«Вот купил новые колеса!» - говорил он, довольный, и по очереди выставлял ноги в новых ботинках.
«Вчера весь день кантовался. Отопью пару глотков крушины и по новой валюсь на кровать с этой книгой. Вчера дочитал. Отличная книга. Вот так надо писать! - он протянул мне нетолстую книгу. - Не знаешь? Юрий Домбровский, «Хранитель древностей». Дарю тебе».
«Темнят, гады, чернуху раскидывают», - говорил он о ком-нибудь.
«Жрать будешь?» - спрашивал он меня. Если я не возражал, мы шли на общую кухню. Он извлекал откуда-то коробку с остатками вафельного торта «Сюрприз», разрезал на куски, приговаривая: «Отличная жратва! Ты не смейся. Вкусная, сытная, питательная и готовить не надо». И были в его действии с тортом широта, свобода, даже некая удаль. Я невольно вспоминал Беличью, там он ел по-другому. Когда мы раздобывали что-нибудь пожевать, он приступал к этому делу без улыбки, очень серьезно. Он откусывал понемногу, неторопливо, жевал прочувствованно, внимательно разглядывал то, что ел, поднося близко к глазам. При этом во всем его облике - лице, теле угадывались необыкновенная напряженность и настороженность. Особенно это чувствовалось в неторопливых, рассчитанных его движениях. Каждый раз мне казалось, сделай я что-нибудь резкое, неожиданное - и Варлам молниеносно отпрянет. Инстинктивно, подсознательно. Или также мгновенно кинет оставшийся кусок в рот и захлопнет его. Меня это занимало. Возможно, я сам ел точно так же, но себя я не видел. Теперь жена часто упрекает меня, что я ем слишком быстро и увлеченно. Я этого не замечаю. Наверно, это так, наверно, это «оттуда»...
Письмо
В февральском номере «Литературной газеты» за 1972 год в нижнем правом углу полосы в черной траурной рамочке напечатано письмо Варлама Шаламова. Чтобы о письме говорить, надо его прочитать. Это удивительный документ. Его следует воспроизвести полностью, чтобы произведения такого рода не забывались.
«В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ». Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».
Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветским журналом «Посев» или «Новым журналом», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность.
Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь.
Я - честный советский писатель, инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности.
Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда Коммунистической партии в моей личной жизни и жизни всей страны.
Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков - по рассказу-два в номере,- имеет целью создать у читателя впечатление, что я - их постоянный сотрудник.
Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма.
Я отдаю себе отчет в том, какие грязные цели преследуют подобными издательскими маневрами господа из «Посева» и их так же хорошо известные хозяева. Многолетняя антисоветская практика журнала «Посев» и его издателей имеет совершенно ясное объяснение.
Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.
И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.
Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикаций в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.
Все сказанное относится к любым другим белогвардейским изданиям за границей.
Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?
Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!
С уважением
Варлам Шаламов.
Когда я наткнулся на это письмо и прочитал его, я понял, что над Варламом учинено еще одно насилие, грубое и жестокое. Не публичное отречение от «Колымских рассказов» поразило меня. Старого, больного, измученного человека нетрудно было вынудить к этому. Язык поразил меня! Язык этого письма рассказал мне обо всем, что случилось, он - неопровержимая улика. Таким языком Шаламов изъясняться не мог, не умел, не был способен. Не может говорить таким языком человек, которому принадлежат слова:
Пускай я осмеян
И предан костру,
Пусть прах мой развеян
На горном ветру,
Нет участи слаще,
Желанней конца,
Чем пепел, стучащий
В людские сердца.
Так звучат последние строки одного из лучших стихотворений Шаламова, носящего весьма личный характер, - «Аввакум в Пустозерске». Вот что для Шаламова значили «Колымские рассказы», от которых его заставили публично отречься. И как бы предвидя это роковое событие, в книге «Дорога и судьба» он написал следующее:
Меня застрелят на границе,
Границе совести моей,
И кровь моя зальет страницы,
Что так тревожила друзей.
Пусть незаметно, малодушно
Я к страшной зоне подойду,
Стрелки прицелятся послушно.
Пока я буду на виду.
Когда войду в такую зону
Непоэтической страны,
Они поступят по закону,
Закону нашей стороны.
И чтоб короче были муки,
Чтоб умереть наверняка,
Я отдан в собственные руки,
Как в руки лучшего стрелка.
Мне стало ясно: Шаламова заставили подписать это удивительное «произведение». Это в лучшем случае...
Как ни парадоксально, автор «Колымских рассказов», человек, которого с 1929 года по 1955 год волочили по тюрьмам, лагерям, пересылкам сквозь болезни, голод и холод, - никогда не слушал западных «голосов», не читал «самиздата». Я знаю это точно. Он не имел ни малейшего представления об эмигрантских журналах и вряд ли названия их слышал раньше, чем поднялся шум по поводу публикаций ими отдельных его рассказов...
Читая это письмо, можно подумать, что Шаламов годы был подписчиком «зловонных журнальчиков» и добросовестно их изучал от корки до корки: «И в прошлые годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается...»
Самые страшные слова в этом послании, а для Шаламова они просто убийственные: «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью...»
Организаторам массового террора тридцатых, сороковых и начала пятидесятых годов очень бы хотелось закрыть эту тему, заткнуть рты ее уцелевшим жертвам и свидетелям. Но это такая страница нашей истории, которую выдрать, как лист из книги жалоб, - нельзя. Эта страница была бы самой трагической в истории нашего государства, если бы не перекрыла ее еще большая трагедия Великой Отечественной войны. И очень возможно, что первая трагедия в значительной мере спровоцировала вторую.
Для Варлама Тихоновича Шаламова, прошедшего все круги ада и уцелевшего, «Колымские рассказы», обращенные к миру, были его священным долгом писателя и гражданина, были главным делом его сохранившейся для этого жизни, и этим рассказам отданной.
Добровольно отречься от «Колымских рассказов» и их проблематики Шаламов не мог. Это было равносильно самоубийству. Его слова:
Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну.
9 сентября 1972 года, простившись с Магаданом, мы с женой вернулись в Москву. Я отправился к В. Т., как только появилась возможность. Он первым заговорил о злополучном письме. Он ждал разговора о нем и, похоже, готовил себя к нему.
Он начал без каких-либо обиняков и подходов к вопросу» почти без приветствия, от порога.
Ты не думай, что кто-то заставил меня подписать это письмо. Жизнь меня заставила сделать это. А как ты считаешь: я могу прожить на семьдесят рублей пенсии? После напечатания рассказов в «Посеве» двери всех московских редакций для меня оказались закрытыми. Стоило мне зайти в любую редакцию, как я слышу: «Ну что вам, Варлам Тихонович, наши рубли! Вы теперь человек богатый, валютой получаете...» Мне не верили, что кроме бессонницы я не получил ничего. Пустили, сволочи, рассказы в разлив и на вынос. Если бы напечатали книгой! Был бы другой разговор... А то по одному-два рассказа. И книги нет, и здесь все дороги закрыты.
Ну хорошо, - сказал я ему, - я понимаю тебя. Но что там написано и как там написано? Кто поверит, что писал это ты?
Меня никто не заставлял, никто не насиловал! Как написал - так написал.
Красные и белые пятна пошли по его лицу. Он метался по комнате, открывал и закрывал форточку. Я постарался его успокоить, сказал, что верю ему. Сделал все, чтобы от этой темы уйти.
Трудно признаться, что ты изнасилован, даже себе трудно в этом признаться. И трудно жить с этой мыслью.
От этого разговора у нас обоих - у него и у меня - остался тяжелый осадок.
В. Т. не сказал мне тогда, что в 1972 году готовилась к выходу новая книга его стихов «Московские облака» в издательстве «Советский писатель». К печати она была подписана 29 мая 1972 года...
Шаламов действительно не вступал в какие-либо отношения с названными журналами, в этом нет никакого сомнения. Ко времени публикации рассказов в «Посеве» они давно уже ходили в стране по рукам. И нет ничего удивительного в том, что они попали и за рубеж. Мир стал тесен.
Удивительно, что честные, правдивые, во многом автобиографичные колымские рассказы Шаламова, написанные кровью сердца, не были изданы у себя дома. Сделать это было разумно и необходимо для освещения прошлого, дабы спокойно и уверенно можно было идти в будущее. Тогда бы не надо было брызгать слюной в сторону «зловонных журнальчиков». Рты их были бы заткнуты, отнят «хлеб». И не надо было ломать позвоночник старому, больному, истерзанному и удивительно одаренному человеку.
Мы, как правило, убиваем своих героев прежде, чем возвеличить.
Встречи в москве
После приезда Шаламова из Барагона к нам в Магадан в 1953 году, когда он делал первую попытку вырваться с Колымы» мы с ним не виделись четыре года. Встретились в 1957 году в Москве случайно, недалеко от памятника Пушкину. Я выходил с Тверского бульвара на улицу Горького, он - с улицы Горького спускался на Тверской бульвар. Был конец мая или начало июня. Яркое солнце беззастенчиво слепило глаза. Навстречу мне шел легкой пружинистой походкой рослый, по-летнему одетый мужчина. Возможно, я не задержал бы на нем взгляда и прошел мимо, если бы этот человек не раскинул широко руки и высоким, знакомым мне голосом не воскликнул: «Ба, вот это встреча!» Он был свеж, весел, радостен и тут же мне рассказал» что вот только что ему удалось опубликовать в «Вечерней Москве» статью о московских таксистах. Он считал это большой для себя удачей и был очень доволен. Рассказывал о московских таксистах, о редакционных коридорах и тяжелых дверях. Это первое, что он о себе рассказал. Рассказывал, что живет и прописан в Москве, что женат на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой, с ней и ее сыном Сережей занимает комнату в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре. Рассказал, что его первая жена (если я не ошибаюсь, урожденная Гудзь, дочь старого большевика) от него отказалась и их общую дочь Лену воспитала в неприязни к отцу.
Познакомился с Ольгой Сергеевной В. Т. в Переделкино, где обретался какое-то время, приезжая со своего «сто первого километра», как я думаю, повидаться с Борисом Леонидовичем Пастернаком.
Помню, что Лена, дочь В. Т., родилась в апреле. Помню потому, что в 1945 году на Беличьей, это было в апреле, он сказал мне очень тоскливо: «Сегодня у моей дочери день рождения». Я изыскал способ отметить это событие, и мы выпили с ним по мензурке медицинского спирта.
В то время жена ему часто писала. Время было трудное, военное. Анкета у жены была, прямо скажем, дрянной, и жилось ей с ребенком весьма нерадостно, весьма непросто. В одном из писем она писала ему примерно следующее: «...Поступила на курсы бухгалтеров. Профессия эта не очень хлебная, но надежная: у нас ведь всегда и везде что-нибудь считают». Не знаю, была ли у нее какая-либо профессия раньше и если была, то какая.
По словам В. Т., его возвращение с Колымы жену не обрадовало. Она встретила его в высшей степени неприязненно и не приняла. Она считала его прямым виновником своей загубленной жизни и сумела внушить это дочери.
Я в то время в Москве был проездом с женой и дочкой. Большой северный отпуск позволял нам не очень экономить время. Мы задержались в Москве, чтобы помочь моей маме, вышедшей из лагеря инвалидом, в 1955 году реабилитированной, в хлопотах о возвращении жилплощади. Остановились в гостинице «Северная» в Марьиной роще.
Варлам очень хотел познакомить нас с Ольгой Сергеевной и пригласил к себе. Ольга Сергеевна нам понравилась: милая, скромная женщина, которую, судя по всему, жизнь тоже не очень баловала. Нам показалось, что в их отношениях есть гармония, и мы радовались за Варлама. Несколько дней спустя Варлам и О. С. приехали к нам в гостиницу. Я их познакомил с мамой...
С той встречи в 1957 году между нами установилась регулярная переписка. И каждый мой приезд в Москву мы с Варламом встречались.
Еще до 1960 года Варлам и Ольга Сергеевна с Гоголевского бульвара переехали в дом 10 по Хорошевскому шоссе, где в коммунальной квартире получили две комнаты: одну средних размеров, а вторую совсем маленькую. Но у Сергея был теперь свой угол к общей радости и удовлетворению.
В 1960 году я заканчивал Всесоюзный заочный политехнический институт и более года жил в Москве, сдавая последние экзамены, курсовые и дипломный проекты. В этот период мы виделись с Варламом часто - и у него на Хорошевке, и у меня в Новогиреево. Я жил тогда у мамы, которая после долгих хлопот получила комнату в двухкомнатной квартире. Позже, после моей защиты и возвращения в Магадан, Варлам бывал и без меня у мамы и переписывался с ней, когда она уехала в Липецк к дочери, моей сестре.
В том же 1960 году или начале 1961-го я как-то застал у Шаламова человека, который собирался уже уходить.
Знаешь, кто это был? - сказал Варлам, закрывая за ним дверь. - Скульптор, - и назвал фамилию. - Хочет сделать скульптурный портрет Солженицына. Так вот, приехал просить меня о посредничестве, о протекции, о рекомендации.
Знакомство с Солженицыным тогда В. Т. льстило в высшей степени. Он этого не скрывал. Незадолго перед тем он побывал у Солженицына в Рязани. Был принят сдержанно, но благосклонно. В. Т. познакомил его с «Колымскими рассказами». Эта встреча, это знакомство окрыляли В. Т., помогали его самоутверждению, укрепляли под ним почву. Авторитет Солженицына для В. Т. в то время был велик. И гражданская позиция Солженицына, и писательское мастерство - все тогда Шаламову импонировало.
В 1966 году, будучи в Москве, я выбрал свободный час и позвонил В. Т.
Вали, приезжай! - сказал он.- Только быстро.
Вот, - сказал он, когда я приехал, - собирался сегодня в издательство «Советский писатель». Хочу там оставить. Пусть не печатают, черт с ними, но пусть у них побудет.
На столе лежало два машинописных комплекта «Колымских рассказов».
Многие из его колымских рассказов я знал уже, десятка два было им мне подарено. Знал, когда и как некоторые из них писались. Но увидеть вместе все отобранное им для издательства мне хотелось.
Ладно, - сказал он, - даю тебе на сутки второй экземпляр. У меня не осталось ничего, кроме черновиков. В твоем распоряжении день и ночь. Откладывать больше не могу. А это тебе в подарок, рассказ «Огонь и вода». - Он протянул мне две школьные тетрадки.
В. Т. жил еще на Хорошевском шоссе в тесной комнатке, в шумной квартире. А у нас к этому времени в Москве стояла пустой двухкомнатная квартира. Я сказал, почему бы ему там не поставить стол и стул, он мог бы спокойно работать. Эта идея ему пришлась по душе.
Большая часть жильцов нашего кооперативного дома (ЖСК «Северянин») уже переехала в Москву с Колымы, в том числе и правление ЖСК. Все они очень ревностно, болезненно относились к тем, кто еще оставался на Севере. Общим собранием было принято решение, запрещающее сдавать, подселять или просто пускать в пустующие квартиры кого-либо в отсутствие хозяев. Все это мне растолковали в правлении, когда я пришел поставить в известность, что даю ключ от квартиры В. Т. Шаламову, моему товарищу, поэту и журналисту, живущему и прописанному в Москве и ждущему улучшения своих квартирных условий. Несмотря на протест правления, я оставил письменное заявление на имя председателя ЖСК. У меня сохранилось это заявление с аргументацией отказа и подписью председателя. Считая отказ незаконным, я обратился к начальнику паспортного стола 12-го отделения милиции, майору Захарову. Захаров сказал, что вопрос, по которому я обращаюсь, решается общим собранием пайщиков ЖСК и лежит за пределами его компетенции.
Этот раз я не мог помочь Варламу даже в столь пустяковом деле. Было лето. Собрать общее собрание, да по одному вопросу не удалось. Я вернулся в Магадан. А квартира стояла пустой еще шесть лет, пока мы не выплатили долги за ее приобретение.
В шестидесятые годы Варлам начал резко терять слух, нарушилась координация движений. Он лежал на обследовании в больнице имени Боткина. Был установлен диагноз: болезнь Миньера и склеротические изменения вестибулярного аппарата. Были случаи, когда В. Т. терял равновесие и падал. Несколько раз в метро его поднимали и отправляли в вытрезвитель. Позже он заручился врачебной справкой, заверенной печатями, и она облегчила ему жизнь.
В. Т. слышал все хуже и хуже, и к середине семидесятых годов перестал подходить к телефону. Общение, беседа стоили ему большого нервного напряжения. Это сказывалось на его настроении, характере. Характер у него стал нелегким. В. Т. сделался замкнутым, подозрительным, недоверчивым и потому - необщительным. Встречи, беседы, контакты, избежать которые было нельзя, требовали с его стороны огромных усилий и изматывали его, выводя надолго из равновесия.
В его последние одинокие годы жизни бытовые заботы, самообслуживание тяжелым грузом ложились на него, опустошая внутренне, отвлекая от рабочего стола.
У В. Т. был нарушен сон. Он уже не мог спать без снотворного. Его выбор остановился на нембутале - средстве самом дешевом, но отпускавшемся строго по рецепту врача, с двумя печатями, треугольной и круглой. Действие рецепта ограничивалось десятью днями. Полагаю, что у него к этому препарату развилось привыкание, и он вынужден был увеличивать дозы. Доставание нембутала тоже отнимало у него время и силы. По его просьбе, еще до нашего возвращения из Магадана в Москву, мы посылали ему и сам нембутал, и рецепты без проставленной даты.
Бурная канцелярская деятельность той поры проникала во все поры жизни, не делая исключения и медицине. Врачам предписывалось иметь личные печати. Вместе с печатью лечебного учреждения врач обязан был ставить и свою личную печать. Формы рецептурных бланков часто менялись. Если раньше врач получал рецептурные бланки с поставленной треугольной печатью поликлиники, то позже больной должен был сам идти от врача к окну больничных листов, чтобы поставить вторую печать. Врач часто забывал сказать об этом больному. Аптека не отпускала лекарства. Больной вынужден был снова идти или ехать в свою поликлинику. Этот стиль существует поныне.
Моя жена, хирург по специальности, в Магадане последние перед уходом на пенсию несколько лет работала в физкультурном диспансере, где лекарств не прописывают, и обеспечение В. Т. нембуталом для нас тоже становилось сложной проблемой. Варлам нервничал, писал раздраженные письма. Сохранилась эта невеселая переписка. Когда мы переехали в Москву, а в Москве жена уже не работала, проблема рецептов усложнилась еще более.
Уроки хорошего тона
В конце шестидесятых годов я был в Москве раза четыре. И, конечно, в каждый приезд свой хотел повидать Варлама Тихоновича. Как-то с автозавода имени-Лихачева, куда я приезжал для обмена опытом, я проехал к В. Т. на Хорошевку. Он бурно приветствовал меня, но выразил сожаление, что не может уделить мне много времени, так как должен быть через час в издательстве. Мы обменивались главными своими новостями, пока он одевался и собирался. Вместе дошли до автобусной остановки и разъехались в разные стороны. Прощаясь, В. Т. сказал мне:
Ты звони, когда сможешь приехать, чтобы наверняка застать меня дома. Звони, Борис, и мы договоримся.
Сев в автобус, я стал прокручивать в памяти свежие впечатления нашей встречи. Вдруг я вспомнил: в прошлый мой приезд в Москву первая наша встреча с В. Т. очень была похожа на сегодняшнюю. Я подумал о совпадении, но не задержал на этом надолго внимание.
В году семьдесят втором или третьем (в то время В. Т. жил уже на Васильевской улице, и мы вернулись в Москву), будучи где-то очень близко от его дома, я решил заглянуть к нему, проведать. Дверь открыл В. Т. и сказал, разводя руками, что принять меня сейчас не может, так как у него посетитель» с которым предстоит ему долгий и трудный деловой разговор. Просил извинить его и настаивал:
Ты приезжай, я всегда тебе рад. Но ты звони» пожалуйста» звони, Борис.
Я вышел на улицу немного растерянный и смущенный. Пытался представить себя на его месте, как я возвращаю его с порога своего дома. Мне это казалось тогда невозможным.
Вспомнился 1953 год, конец зимы, поздний вечер, стук в дверь и на пороге Варлам, с которым мы не виделись и не общались с ноября 1945 года, более семи лет.
Я из Оймякона, - сказал Варлам. - Хочу хлопотать о выезде с Колымы. Хочу уладить кое-какие дела. Мне нужно пробыть в Магадане дней десять.
Мы жили тогда рядом с автовокзалом на Пролетарской улице в общежитии медицинских работников, где в длинный и темный коридор открывались двери двадцати четырех комнат. Наша комната служила нам и спальней, и детской, и кухней, и столовой. Мы жили в ней с женой и трехлетней дочкой, тогда болевшей, и нанимали для нее няню, западную украинку, отбывшую большой срок в лагерях за религиозные убеждения. По окончании срока ее оставили в Магадане на спецпоселении, как и других евангелистов. Лена Кибич жила у нас.
У меня и у жены нежданное появление Варлама ни на секунду не вызвало ни сомнения, ни» замешательства. Мы уплотнились еще больше и стали делить с ним кров и хлеб.
Сейчас я подумал, что мог бы Шаламов о своем приезде написать загодя или дать телеграмму. Мы бы что-то придумали более удобное для всех нас. Тогда такая мысль не пришла ни ему, ни нам.
Варлам прожил у нас две недели. В выезде ему отказали. Он вернулся на свой таежный медпункт на границе с Якутией» где работал фельдшером после освобождения из лагеря.
Теперь, когда я об этом пишу, я очень его понимаю. Давно уже понимаю. Сейчас мне больше лет, чем было Варламу в шестидесятые годы. Мы оба с женой не очень здоровы. Тридцать два и тридцать пять лет на Колыме не прошли для нас даром. Нежданные гости теперь нас очень стесняют. Когда мы отворяем дверь на неожиданный стук и видим на пороге весьма дальних родственников, поднявшихся на седьмой этаж пешком, несмотря на исправный лифт, или давних знакомых, приехавших в Москву к концу месяца или квартала, у нас невольно напрашиваются слова: «Что же вы, милые, не написали о намерении приехать, не позвонили? Могли не застать нас дома...» Даже приход соседей без предупреждения нас затрудняет, застает часто не в форме и злит порой. Это при всем расположении к людям.
И вот - товарищ по лагерю, где каждый был обнажен до предела, человек, с которым ты делил хлеб и баланду, сворачивал одну на двоих цигарку... Предупреждать о приходе, согласовывать встречи - не приходило в голову! Не приходило долго.
Теперь я часто вспоминаю Варлама и его уроки хорошего тона, а если точнее, простейших норм общежития. Понимаю его нетерпение, его правоту.
Прежде, в другой нашей жизни, иными были точки отсчета.
Муха
Когда Варлам Тихонович разошелся с Ольгой Сергеевной, но оставался еще под одной с нею крышей, он поменялся с Сережей местами: Сережа перешел к матери в комнату, а маленькую комнату занял В. Т. Под узким окном в фанерной коробке на тумбочке рядом с Варламом поселилась черная гладкая кошка с умными зелеными глазами. Он называл ее Мухой. Муха вела свободный, независимый образ жизни. Все естественные оправления совершала на улице, из дома выходила и возвращалась через открытую форточку. А котят рожала в коробке.
К Мухе В. Т. был очень привязан. В долгие зимние вечера, когда он сидел за рабочим столом, а Муха лежала у него на коленях, свободной рукой он мял ее мягкий, подвижный загривок и слушал ее мирное кошачье урчание - символ свободы и домашнего очага, который хотя и не крепость твоя, но и не камера, не барак, во всяком случае.
В 1966 году летом Муха вдруг пропала. В. Т., не теряя надежды, искал ее по всей округе. На третий или четвертый день он нашел ее труп. Возле дома, где жил В. Т., вскрывали траншею, меняли трубы. В этой траншее он нашел Муху с разбитой головой. Это привело его в невменяемое состояние. Он неистовствовал, бросался на ремонтных рабочих, молодых, здоровых мужиков. Они смотрели на него с великим удивлением, как смотрит кошка на бросающуюся на нее мышь, пытались его успокоить. Целый квартал был поднят на ноги.
Мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это была одна из самых больших его потерь.
Выщербленная лира,
Кошачья колыбель -
Это моя квартира,
Шиллеровская щель.
Здесь нашу честь и место
В мире людей и зверей
Оберегаем вместе
С черною кошкой моей.
Кошке - фанерный ящик.
Мне-колченогий стол,
Клочья стихов шуршащих
Снегом покрыли пол.
Кошка по имени Муха
Точит карандаши.
Вся - напряженье слуха
В темной квартирной тиши.
Муху В. Т. похоронил и еще долго оставался в удрученном, подавленном состоянии.
С Мухой на коленях я сфотографировал как-то Варлама Тихоновича. На снимке его лицо излучает покой и умиротворенность. Варлам называл этот снимок самым любимым из всех снимков послелагерной жизни. Между прочим, у этого снимка с Мухой были дубли. На одном из них у Мухи получились как бы сдвоенные глаза. В. Т. это страшно заинтриговало. Он никак не мог понять, каким образом такое могло получиться. А мне это непонимание казалось забавным - при его-то разносторонности и гигантской эрудиции. Я объяснял ему, что снимая в слабоосвещенном помещении, я вынужден был увеличить экспозицию, выдержку. Реагируя на щелчок аппарата, кошка моргнула, и аппарат зафиксировал ее глаза в двух положениях, Варлам слушал с недоверием, и мне казалось, что ответом он неудовлетворен...
В. Т. я фотографировал много раз и по его просьбе, и по своему желанию. Когда готовилась к печати его книга стихов «Дорога и судьба» (я считаю этот сборник одним из лучших), он попросил снять его для издательства. Было холодно. Варлам был в пальто и шапке-ушанке с болтающимися тесемками. Мужественный, демократичный облик на этом снимке. В. Т. его и отдал издательству. К сожалению, благонамеренная ретушь сгладила суровые черты лица. Я сравниваю подлинник с портретом на суперобложке и вижу, как много потеряно.
Что же касается Мухи, что же касается Кошки,- она всегда была для Варлама символом свободы и домашнего очага, антипода «мертвого дома», где голодные, одичавшие люди поедали извечных друзей своего очага - собак и кошек.
О том, что на знамени Спартака была изображена голова кошки как символ свободолюбия и независимости, впервые я узнал от Шаламова.
Кедровый стланик
Кедрач, или кедровый стланик - кустистое растение с мощными древовидными ветвями, достигающими толщины в десять-пятнадцать сантиметров. Ветки его покрыты длинными темно-зелеными иглами хвои. Летом ветви этого растения стоят почти вертикально, устремляя свою пышную хвою к не очень жаркому колымскому солнцу. Ветка стланика щедро усыпана мелкими шишками, наполненными тоже мелкими, но вкусными настоящими кедровыми орешками. Таков кедрач летом. С наступлением зимы он опускает свои ветви к земле и прижимается к ней. Северные снега покрывают его толстой шубой и сохраняют до весны от лютых колымских морозов. А с первыми весенними лучами он пробивает свой снежный покров. Всю зиму он стелется по земле. Вот почему кедрач называют стлаником.
Между небом весенним и небом осенним над нашей землей не столь уж большой промежуток. А поэтому, как и следует ожидать, не очень рослая, не очень броская, не очень пышная северная флора спешит, торопится зацвесть, процвесть, отплодоносить. Спешат деревья, спешат кустарники, спешат цветы и травы, спешат лишайники и мхи, все спешат уложиться в отведенные им природой сроки.
Великий жизнелюб, стланик плотно прижался к земле. Лег снег. Сизый дымок из трубы магаданского хлебозавода изменил направление - он потянулся к бухте. Кончилось лето.
Как встречают на Колыме Новый год? С елкой, конечно! Но ель на Колыме не растет. Колымская «ёлка» делается так: срубается лиственница нужного размера, наголо обрубаются ветки, ствол обсверливается, в отверстия вставляются ветки стланика. И чудо-елка ставится в крестовину. Пышная, зеленая, ароматная, заполняющая помещение терпким запахом теплой смолы, новогодняя елка - большая радость для детей и для взрослых.
Колымчане, вернувшиеся на «материк», к настоящей елке привыкнуть не могут, с нежностью вспоминают составную колымскую «елку».
У Шаламова о кедровом стланике написано много в стихах и в прозе. Расскажу об одном эпизоде, вызвавшем к жизни два произведения Варлама Шаламова - прозаическое и поэтическое - рассказ и стихотворение.
В растительном мире Колымы два символических растения - это кедровый стланик и лиственница. Мне кажется, кедровый стланик символичен в большей степени.
К новому 1964 году авиабандеролью я послал из Магадана в Москву Варламу Тихоновичу несколько свежесрезанных веток стланика. Он догадался поставить стланик в воду. Стланик жил в доме долго, наполняя жилище запахом смолы и тайги. В письме от 8 января 1964 года В. Т. писал:
«Дорогой Борис, жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик оказался невиданным зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, главное говорили: «Пахнет елкой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть сосна, и ель, и можжевельник».
Прозаическое произведение, навеянное этим новогодним подарком, - рассказ. Он посвящался Нине Владимировне и мне. Здесь уместно сказать, что Нина Владимировна Савоева, бывший главный врач больницы на Беличьей, в 1946 году, через год после моего освобождения стала моей женой.
Когда Варлам Тихонович пересказывал продуманное им содержание будущего рассказа, я не согласился с некоторыми его положениями и деталями. Просил их убрать и не называть наших имен. Он внял моим пожеланиям. И родился рассказ, который мы знаем теперь под названием «Воскрешение лиственницы».
Я не лекарственные травы,
В столе храню,
Их трогаю не для забавы
Сто раз на дню.
Я сохраняю амулеты
В черте Москвы.
Народной магии предметы -
Клочки травы.
В свой дальний путь,
В свой путь недетский
Я взял в Москву -
Как тот царевич половецкий
Емшан-траву, -
Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.
Так иногда незначительный повод вызывает в воображении мастера художественный образ, рождает идею, которая, обретая плоть, начинает долгую жизнь как произведение искусства.
Время
В 1961 году в издательстве «Советский писатель» тиражом в две тысячи экземпляров вышла первая книга стихов Шаламова «Огниво». Варлам прислал ее нам со следующей надписью:
«Нине Владимировне и Борису с уважением, любовью и глубочайшей признательностью. Беличья - Ягодный - Левый берег - Магадан - Москва. 14 мая 1961 года. В. Шаламов».
Мы с женой от души радовались этой книжке, читали ее друзьям и знакомым. Мы гордились Варламом.
В 1964 году дышла вторая книжка стихов «Шелест листьев» тиражом в десять раз большим. Варлам прислал ее. Мне хотелось, чтобы вся лагерная Колыма знала, что человек, прошедший через все ее жернова, не утратил способности к высокой мысли и глубокому чувству. Я знал, что ни одна газета не напечатает того, что я хотел бы и мог рассказать о Шаламове, но дать о нем знать мне очень хотелось. Я написал отзыв, называя обе книжки, и предложил «Магаданской правде». Его напечатали. Несколько экземпляров я послал Варламу в Москву. Он попросил прислать еще сколько возможно номеров этой газеты.
Небольшой отклик на «Шелест листьев» Веры Инбер в «Литературке» и мой в «Магаданской правде» - это было все, что появилось в печати.
В 1967 году у В. Т. вышла третья книга стихов «Дорога и судьба», как и предыдущие, - в издательстве «Советский писатель». Каждые три года - книга стихов. Стабильность, регулярность, основательность. Зрелые мудрые стихи - плоды мысли, чувства, неординарного жизненного опыта.
Уже после второй книги люди с именем, достойные уважения, предлагали ему свои рекомендации в Союз писателей. О предложении Л. И. Тимофеева, литературоведа, членкора АН СССР мне рассказывал сам В. Т.. В 1968 году Борис Абрамович Слуцкий говорил мне, что тоже предлагал Шаламову свою рекомендацию. Но В. Т. вступать в СП тогда не хотел. Мне он объяснял это тем, что ставить свою подпись под декларацией этого союза ему не с руки, брать на себя сомнительные, как ему казалось, обязательства он считает невозможным. Это была его позиция того времени.
Но время, выспренне говоря, бесстрастно, а действие его на нас неотвратимо и разрушительно. И возраст, и вся безумная, недоступная пониманию нормального человека, страшная тюремно-лагерная одиссея Шаламова проявляла себя все заметнее и заметнее.
Как-то я заехал на Хорошевское, 10. Варлама Тихоновича не было дома, встретила меня Ольга Сергеевна приветливо, как всегда. Мне показалось, что она рада моему приходу. Я был тем человеком, который знал их отношения с В. Т. с самого начала. Я оказался тем, перед кем она смогла выплеснуть всю свою тоску, горечь и разочарование.
Цветы, которые она устанавливала на столе, сделали ее грустнее, тоскливее. Мы сели друг против друга. Она говорила, я слушал. Из ее рассказа я понял, что они с Варламом давно уже не муж и жена, хотя и продолжают жить под одной крышей. Характер его стал несносен. Он подозрителен, всегда раздражен, нетерпим ко всем и всему, что противоречит его представлениям и желаниям. Он терроризирует продавщиц магазинов ближайшей округи: перевешивает продукты, тщательно пересчитывает сдачу, пишет жалобы во все инстанции. Замкнут, озлоблен, груб.
Я ушел от нее с тяжелым сердцем. Это была наша последняя с ней встреча и беседа. Вскоре В. Т. получил комнату тоже в коммунальной квартире, этажом выше.
Из книги Переписка автора Шаламов ВарламВ.Т. Шаламов - Н.Я. Мандельштам Москва, 29 июня 1965 годаДорогая Надежда Яковлевна,в ту самую ночь, когда я кончил читать вашу рукопись, я написал о ней большое письмо Наталье Ивановне, вызванное всегдашней моей потребностью немедленной и притом письменной «отдачи».
Из книги От Тарусы до Чуны автора Марченко Анатолий ТихоновичВ.Т. Шаламов - Н.Я. Мандельштам Москва, 21 июля 1965 годаДорогая Надежда Яковлевна!Писал вам вслед, чтобы не прерывать разговор, но адрес верейский я не догадался записать, когда был в Лаврушинском, а моя проклятая глухота задержала больше, чем на сутки, телефонные поиски. А
Из книги Как уходили кумиры. Последние дни и часы народных любимцев автора Раззаков ФедорМарченко Анатолий Тихонович От Тарусы до Чуны От автора Выйдя в 1966 году из лагеря, я считал, что написать и предать гласности то, чему я был свидетелем, это мой гражданский долг. Так появилась книга «Мои показания».Потом я решился попытать свои силы в художественном жанре.
Из книги Четвертая Вологда автора Шаламов ВарламШАЛАМОВ ВАРЛАМ ШАЛАМОВ ВАРЛАМ (поэт, писатель: «Колымские рассказы» и др.; скончался 17 января 1982 года на 75-м году жизни).Шаламову был 21 год, когда в феврале 1929 года его арестовали за распространение антисталинских листовок и отправили в ГУЛАГ. Там он пробыл два года. Однако в
Из книги Память, согревающая сердца автора Раззаков ФедорКАЗАНЦЕВ Василий Тихонович Василий Тихонович Казанцев родился в 1920 году в селе Сугояк Красноармейского района Челябинской области в семье крестьянина. Русский. Работал в родном колхозе трактористом. В 1940 году призван в Советскую Армию. С первых дней Великой
Из книги Тайный русский календарь. Главные даты автора Быков Дмитрий ЛьвовичМАКЕЕНОК Артем Тихонович Подполковник РККАПодполковник ВС КОНРРодился 30 января 1901 г. в деревне Кончаны Освейского уезда. Белорус. Из крестьян-бедняков. В 1913 г. окончил 4-классное училище. Участник Гражданской войны, принимал участие в боевых действиях в районе Себежа с
Из книги Борис Пастернак. Времена жизни автора Иванова Наталья БорисовнаШАЛАМОВ Варлам ШАЛАМОВ Варлам (поэт, писатель: «Колымские рассказы» и др.; скончался 17 января 1982 года на 75-м году жизни). Шаламову был 21 год, когда в феврале 1929 года его арестовали за распространение антисталинских листовок и отправили в ГУЛАГ. Там он пробыл два года. Однако
Из книги А.Н. Туполев – человек и его самолеты автора Даффи Пол18 июня. Родился Варлам Шаламов (1907) Имеющий право Вероятно, русская литература - которую в этом смысле трудно удивить - не знала более страшной биографии: Варлам Шаламов был впервые арестован в 1929 году за распространение ленинского «Письма к съезду», отсидел три года на
Из книги Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии автора Бухарин АнатолийВарлам Шаламов и Борис Пастернак: к истории одного стихотворения Первым, к кому Варлам Шаламов обратился со своими стихами, еще с Колымы, и первым, к кому он пришел 13 ноября 1953 года, на следующий по приезде в Москву после восемнадцати лет лагерей и ссылки день, был Борис
Из книги Туляки – Герои Советского Союза автора Аполлонова А. М.Валентин Тихонович Климов Валентин Климов. Генеральный директор АНТК им. Туполева с 1992 по 1997 годВалентин Климов родился 25 августа 1939 года. После окончания Московского авиационно-технологического института имени Циолковского в 1961 году был принят на работу в ОКБ имени
Из книги Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 1. А-И автора Фокин Павел Евгеньевич Из книги автораВолынкин Илья Тихонович Родился в 1908 году в деревне Упертовка Богородицкого района Тульской области в семье крестьянина. Окончив сельскую школу, работал в хозяйстве отца, а с 1923 по 1930 год чернорабочим Богородицкого сельхозтехникума. В 1934 году окончил Богородицкий
Из книги автораПолукаров Николай Тихонович Родился в 1921 году в деревне Бобровка Веневского района Тульской области в крестьянской семье. До 1937 года жил и учился в деревне. Окончив два курса Сталиногорского химтехникума, поступил в Таганрогскую военную авиационную школу летчиков.
Варлам Шаламов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 1
КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ
Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, - воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, - человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.
По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога - ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.
На представку
Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.
В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» - самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки - вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.
На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры - классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала - склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).
Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго - книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая - листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту - дамы, валеты, десятки всех мастей… Масти не различались по цвету - да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми - уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.
Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины - тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» - золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера - самозваные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком - все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него - и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры - трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» - то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра - это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.
Играли всегда двое - один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись - так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.
Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке - двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника - монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, - ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики - это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.
В 1924 году он уехал из родного города, работал дубильщиком на кожевенном заводе в Сетуни.
В 1926 году поступил на факультет советского права Московского государственного университета.
19 февраля 1929 году Шаламов был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму за распространение "Письма к съезду" Владимира Ленина. Приговорен к трем годам заключения в Вишерском отделении Соловецких лагерей особого назначения.
В 1932 году вернулся в Москву, где снова продолжил литературную работу, занимался журналистикой, сотрудничал в ряде небольших профсоюзных журналов.
В 1936 году в журнале "Октябрь" один из его первых рассказов "Три смерти доктора Аустино".
В 1937 году в журнале "Литературный современник" вышел рассказ Шаламова "Пава и дерево" .
В январе 1937 года он был снова арестован и приговорен к пяти годам Колымских лагерей, а в 1943 году — к десяти годам за антисоветскую агитацию: назвал писателя Ивана Бунина русским классиком.
В 1951 году Шаламов был освобожден, работал фельдшером недалеко от села Оймякона.
В 1953 году поселился в Калининской области (ныне Тверская область), где трудился агентом по техническому снабжению на торфопредприятии.
В 1956 году после реабилитации Шаламов вернулся в Москву.
Некоторое время сотрудничал в журнале "Москва", писал статьи и заметки по вопросам истории культуры, науки, искусства, публиковал стихи в журналах.
В 1960-х годах вышли стихотворные сборники Шаламова "Огниво" (1961), "Шелест листьев" (1964), "Дорога и судьба" (1967).
На рубеже 1960-1970-х годов Шаламов написал автобиографическую повесть "Четвертая Вологда" и антироман "Вишера".
Годы жизни, проведенные в лагерях, стали основой для написания Шаламовым сборника стихов "Колымские тетради" (1937-1956) и главного труда писателя — "Колымских рассказов" (1954-1973). Последние были разделены автором на шесть книг: "Колымские рассказы", "Левый берег", "Артист лопаты", "Очерки преступного мира", "Воскрешение лиственницы" и "Перчатка или КР-2". "Колымские рассказы" распространялись в самиздате. В 1978 году в Лондоне большой том "Колымских рассказов" впервые был напечатан на русском языке. В СССР они были опубликованы в 1988-1990-х годах.
В 1970-х годах выходили поэтические сборники Шаламова "Московские облака" (1972) и "Точка кипения" (1977).
В 1972 году он был принят в Союз писателей СССР.
В мае 1979 года Шаламов переехал в дом инвалидов и престарелых Литфонда.
В 1980 французское отделение Пен-клуба наградило Шаламова Премией свободы.
В Вологде в доме, где родился и вырос писатель, открыт мемориальный музей Варлама Шаламова.
Писатель был дважды женат, оба брака закончились разводом. Его первой супругой была Галина Гудзь (1910-1986), от этого брака родилась дочь Елена (1935-1990). С 1956 по 1966 год Шаламов был женат на писательнице Ольге Неклюдовой (1909-1989).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников